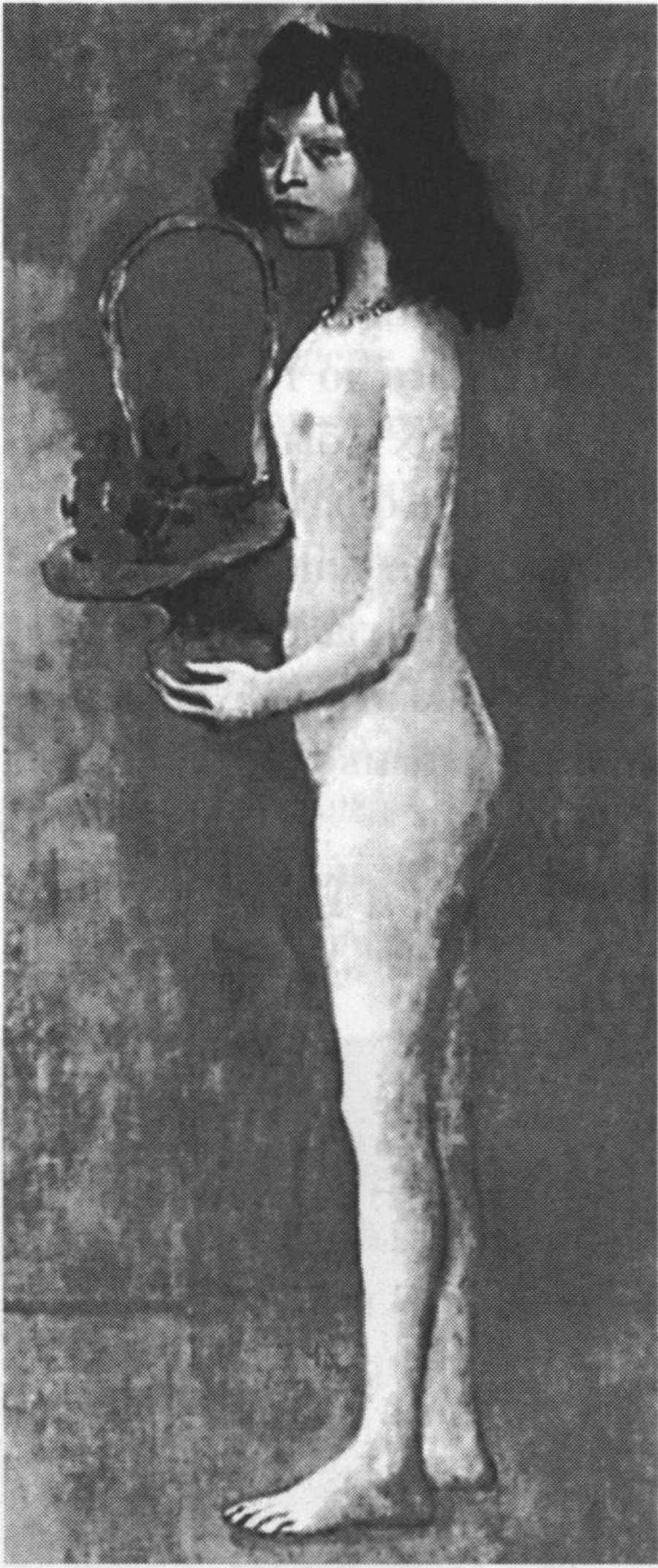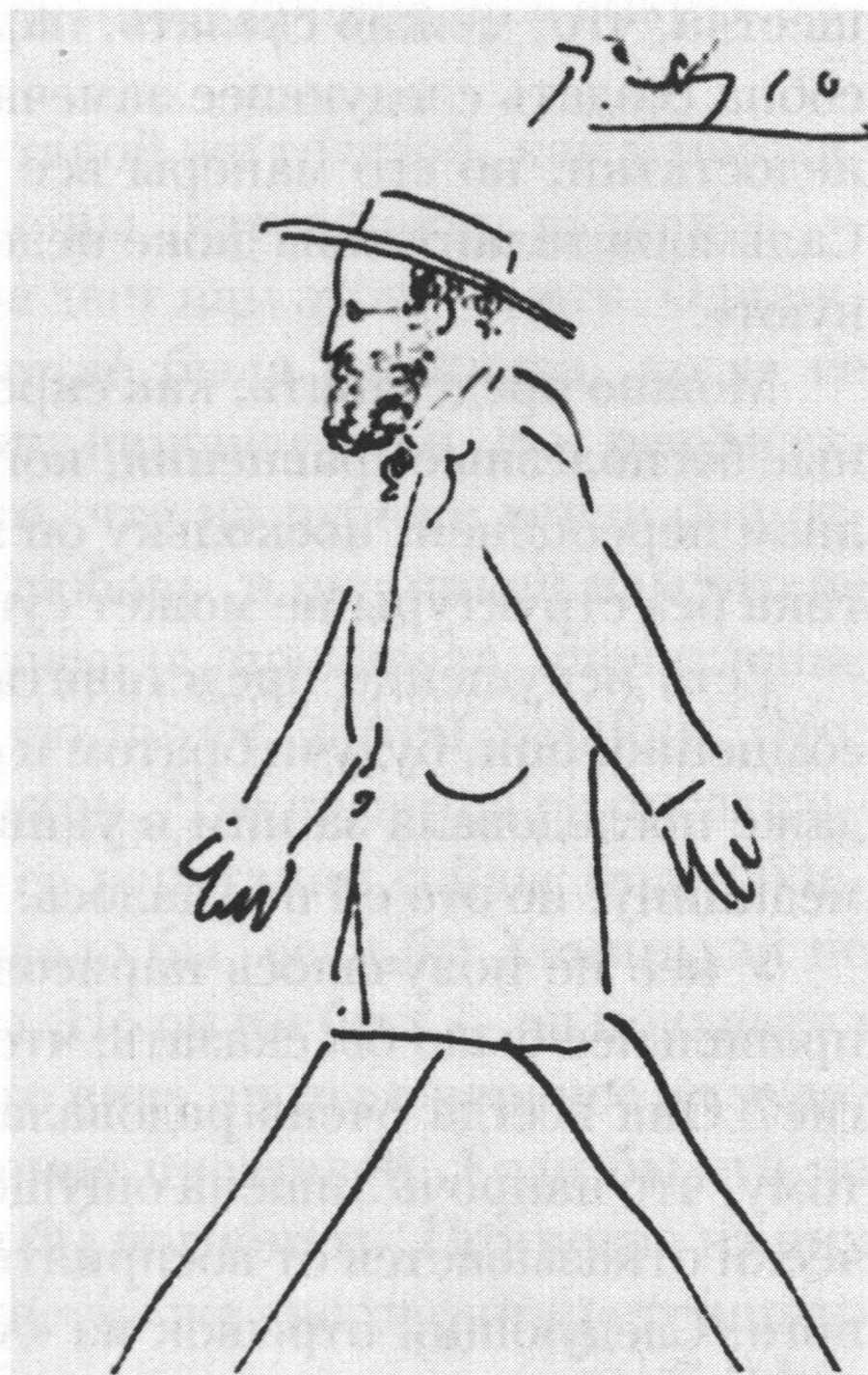а находил их.
|
Глава IIОднако подобное утверждение не основывается на каких-либо четких свидетельствах. В конце концов, новые женщины были так же важны для Пикассо, как и новые идеи в его работах. Фернанда всегда была готова отплатить неверностью за его неверность, в их отношениях всегда существовала потенциальная возможность разрыва. Более того, Пикассо раздражали буржуазные корни Фернанды, ведь ей все-таки хотелось подняться выше по лестнице социальных отношений. Вспомните ее жалкое детство в этой жестокой семье французского среднего класса, и тогда ее социальные амбиции будут вполне понятны, но это и раздражало Пикассо. Судье особенно трудно судить за преступление, которое он мог бы совершить и сам. У Пикассо были собственные планы достижения успеха в обществе. И эти планы он глубоко запрятал не только от посторонних глаз, но и от себя. Мы не можем винить Гертруду Стайн в том, что этот роман потерпел в конечном счете крах, но трудно себе представить, что она могла бы быть той силой, которая удержала бы их вместе. В текстах Гертруды слишком очевидно проглядывает ее презрение к Фернанде. В книге «Автобиография Алисы Б. Токлас» (классический ловкий ход, проделка безудержного тщеславия, в которой Гертруда Стайн, обладая недюжинным умом, пишет о себе с точки зрения Алисы, при этом не позволяя «автору» ни одного критического высказывания в адрес ее обожаемой любовницы) становится понятно, что Фернанду не принимали всерьез. Поскольку Алиса Б. Токлас по большей части говорит голосом Гертруды Стайн, согласимся, что Гертруда не желала говорить голосом Алисы больше, чем это было необходимо. В конце концов, зачем быть Токлас, когда можно быть Стайн? ...Фернанда была забавная. Мы разговаривали о шляпах. У Фернанды были две темы для разговоров — шляпы и духи. В первый день мы беседовали о шляпах. Она любила шляпы, у нее было истинно французское чутье на шляпы. Если шляпка не провоцировала мужчин на улице на какую-нибудь шуточку, то это была неудачная шляпка. Как-то мы гуляли вместе с ней по Монмартру. На ней была большая желтая шляпа, на мне — совсем маленькая голубая. Когда мы проходили мимо какого-то рабочего, он выкрикнул что-то по поводу солнца и луны, сияющих вместе. «Ах, — сказала Фернанда с лучезарной улыбкой, — видите, шляпки имеют успех».
В этом отрывке (написанном четверть века спустя в стиле, настолько же заимствованном у Хемингуэя, насколько сам Эрнест заимствовал стиль у Стайн) упущено только то, что Алиса очень плохо знала французский язык и брала уроки разговорной речи у Фернанды. Нелегко забавлять кого-то, кто плохо знает твой язык! Что же касается самой Гертруды, то тут не может быть ошибки. Она более чем занятна. На страницах «Автобиографии Алисы Б. Токлас» устами Алисы она дает себе самой точно сбалансированную характеристику: Интересное описание первой встречи Гертруды и Пикассо дает Патрик О'Брайен: Некий французский писатель, их знакомый, отвел Стайнов в студию к Пикассо, и они немедленно накупили у него работ на восемьсот франков».
А вот описание этой же ситуации, данное Фернандой: Они весьма уверены в том, что неважно, как о них будут думать окружающие. Брата интересует живопись, он хочет стать художником, а сестра занятна писательством. Она получила комплименты от Герберта Уэллса и весьма ими гордится. Первым привлекал внимание брат. Он был высокий и надменный. Сосредоточенный на собственных мыслях, он с трудом скрывал свое презрение к мыслям окружающих — богатый, эксцентричный американец. Случилось так, что, будучи выходцем из немецко-еврейской семьи, он был настолько неевреем, что был почти антисемитом. И это единственное, в чем они совпадали с сестрой. Лео Стайн был студентом медицинского факультета в университете Джона Хопкинса, но не практиковал; он был писателем, но ничего не писал в течение сорока лет, был художником, но бросил живопись, был знатоком искусства, который проводил время с Бернардом Беренсоном только для того, чтобы стать первым коллекционером авангарда. Но ему был так отвратителен кубизм, что он перестал коллекционировать живопись. Он пытался все это объяснить своими «неврозами». Когда бы не его властность и надменность, он мог бы представлять собою весьма комический персонаж. Самое лучшее представление о Лео Стайне дает его книга «Постижение: живопись, поэзия и проза», изданная в 1947 году. Эта книга предназначалась для того, чтобы показать уровень сестры; он хотел продемонстрировать, что уже забыл многое о живописи, в то время как она еще этого и не знала. Но Гертруда все точно рассчитала и умерла незадолго до того, как книга была опубликована. Имеет смысл привести большой отрывок из книги; в нем хорошо видно — Лео было что сказать.
Я поставил на стол блюдо, типичное для Италии, керамику с простым цветным узором, — и смотрел на него каждый день по десять минут, а иногда и часами. Я задумал увидеть в этом картину и ждал, когда же это произойдет. И это время пришло. Изменение произошло внезапно, когда в блюде, представляющем собой предмет, составленный из разных частей определенной формы, определенных цветов, все соединилось в композицию, составленную из этих элементов. Роспись стала росписью на блюде, стала частью большой композиции, которой было само блюдо. Я создал в себе зачаток живописного видения. И это видение начало распространяться во всех направлениях. Мне хотелось суметь воспринимать все как композицию, и я обнаружил, что это возможно. Я пытался делать это со всем, чем угодно, начиная с клочка бумаги, кончая шеренгой деревьев, выстроившихся на расстоянии в полмили, и я понял, что могу, попрактиковавшись, увидеть картину во всем. Моя привычка видеть живописную композицию в природе, видеть ее где и когда угодно, в малом или большом, теперь мешает мне воспринимать картины. Так, пейзажи Клода и Тернера для меня всего лишь картинны, но не истинно картины. Как может увидеть каждый, эти пейзажи выстроены композиционно, с точки зрения художника-натуралиста. Довольно часто и Сезанн не выходит за эти рамки, только в Китае и Японии общепринятое отношение к пейзажу было поднято на величайшую высоту, а величайший мастер пейзажа в Европе — это Пуссен». Стайн был провозвестником возвеличивания эстетики. Вот как он определяет искусство: Становится очевидным, что он умнее Гертруды, но если ее предназначение состоит в том, чтобы взбаламучивать поверхность общественной жизни, то он, как он сам себя определяет, — «объяснятель», а людей, которые все объясняют, в обществе принято обходить, как некое препятствие. Его верховным судьей является его собственное мнение, ее же судья — всегда мнение общества, что, можно сказать, парадоксально — ведь она была способна создать следующее замечание: «В таланте Аполлинера есть недостатки, но его манеры все это искупают, тогда как у Андре Сальмона талантливы даже недостатки, но манеры вовсе отсутствуют».
Можно представить, как скрежетал зубами Лео, слушая подобные бесполезные сравнения, когда он первый заявил, что сюрреализм переоценен, поскольку он лишен структуры и никакая эстетика без структуры не может существовать. Есть искушение представить их обоих на улице Флерю. Несомненно, они, будучи братом и сестрой, были очень близки, и она даже последовала за ним в университет Хопкинса, чтобы изучать медицину, но это ей не удалось. У нее не получалось нарисовать человеческий мозг, а может, правильнее было бы сказать, что она рисовала это иначе, чем другие? Она всегда очень радовалась (или изображала эту радость) тому, что напрочь лишена ощущения глубины, тому, что категорически отказывается от восприятия всего оккультного или ирреального. Следующий отрывок из «Автобиографии» так и сияет самодовольством: Она действительно презирала все глубинное. Для нее представляло ценность все, что доставляло ей удовольствие, а удовольствие ей доставляло все то, что было связано с обществом. Она могла написать: «Такой-то одет в хорошо сшитый костюм, а другой его не имеет. Это все потому, что другой наполовину немец, наполовину армянин, а, как все знают, армяне с немцами не скрещиваются». Подобного рода разговоры можно было позже услышать от людей, которые собирались вокруг Энди Уорхола. Под ее непробиваемой кожей, такой же толстой, как у моржа, должно быть, таились раны, ссадины, извержения вулканов — мы этого не знаем. Она никогда не даст нам этого узнать. Однажды она проговорилась, что в детстве была счастлива, когда ее отец, холодный, властный человек, наконец умер. Но, разумеется, не было обычным явлением то, что на рубеже веков она открыто практиковала лесбийскую любовь, и она никак нам это не объяснила. Вместо этого она навсегда произвела впечатление тем, что шла своим, избранным ею путем, путем хозяйки, Это, возможно, было ее главным талантом. Что касается ее писательства — трудно сказать, была бы ее репутация сейчас более блестящей или ее вовсе не существовало бы, если бы Хемингуэй не был ее учеником в двадцатые годы. Но он им был — он подхватил тлеющие угли ее понимания нового вида прозы и перенес их туда, где они вдохновили целое поколение писателей. Если бы его не было рядом с ней, ее труды могли бы погибнуть. Немногие из них забавляют нас сегодня. В большинстве же своем они претенциозны или, хуже, бестолковы. Она была плохим писателем. Ее книга «Пикассо», опубликованная в 1938 году, показывает ее ленивый ум, невзыскательность и анемичность. У нее преувеличенное представление о важности ее собственного восприятия, и, что удивительно, она не в состоянии выразить свою точку зрения и отстоять ее. В сущности, кроме ее признания таланта Пикассо, что, допускаем, немаловажно, она мало что понимала о нем и старается это скрыть. Случается, что она еще блеснет остроумием, но ее тщеславие уже действует угнетающе. Она обязательно должна охарактеризовать любое явление, независимо от того, на каком расстоянии от нее все это находится. Хуже всего, что она сгребает густые обобщения и гоняет эту кучу от одной группы слов к другой. Вот, как пример, ее реакция на работы Пикассо, которые создавались после его женитьбы на Ольге Хохловой в 1918 году: В течение этого времени его утешением был кубизм, большие и маленькие арлекины. Его борьба велась на больших полотнах, где формы, несмотря на то что это были фантастические формы, были формами, которыми их видят все, были, если угодно, порнографическими формами, какими их могут видеть русские, но не такими, какими их видят испанцы». При взгляде назад, в прошлое, совершенно очевидна неизбежность того, что Гертруда Стайн и Пикассо были захвачены друг другом. Она могла достичь глубины только благодаря своим напыщенным нагромождениям, а Пикассо никогда не должен был говорить о глубинах из-за страха быть поглощенным этой бездной, которую ему хотелось исследовать.
|
|
© 2026 Пабло Пикассо. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |