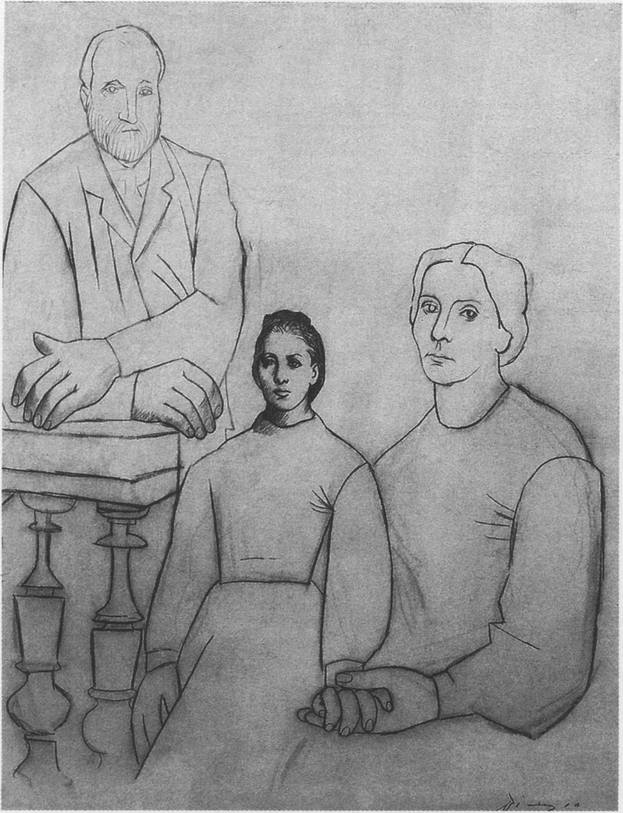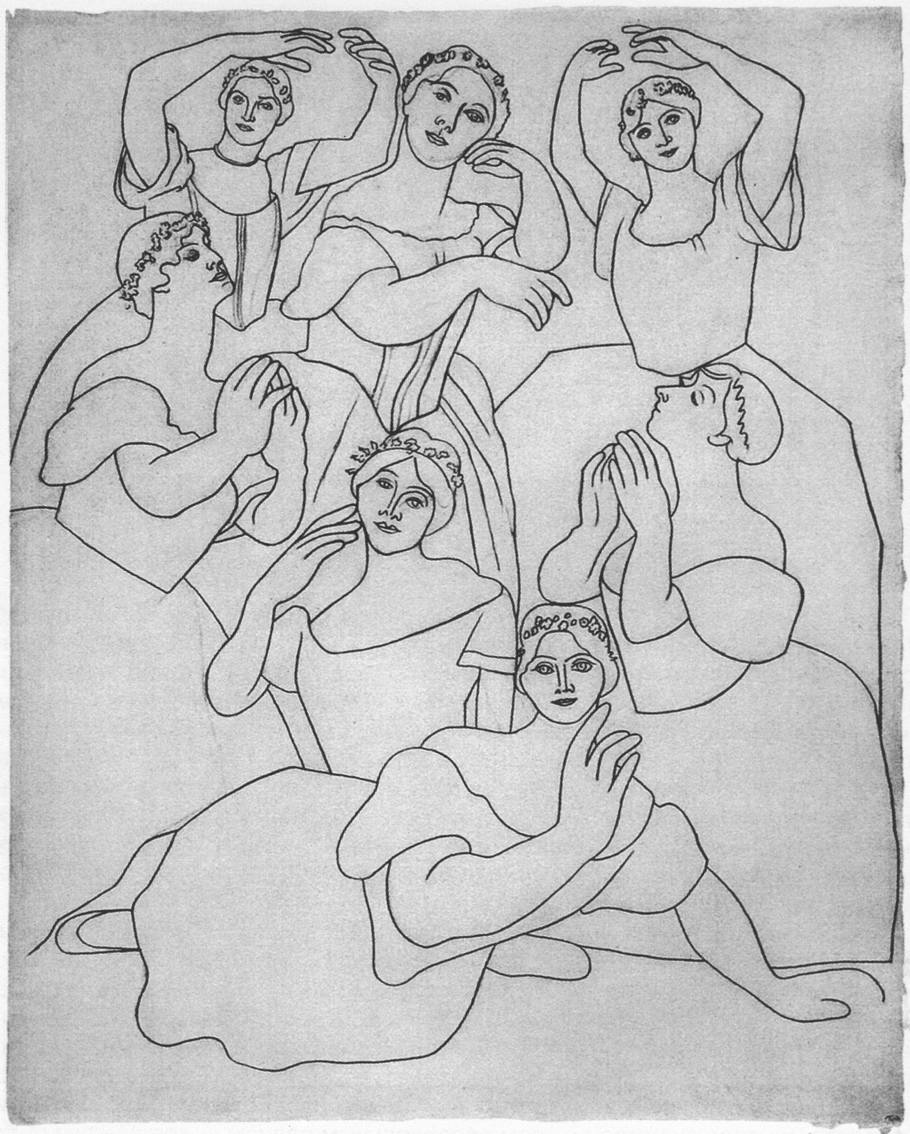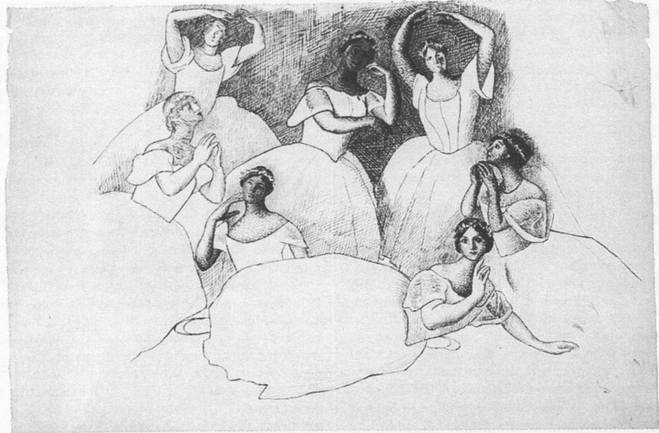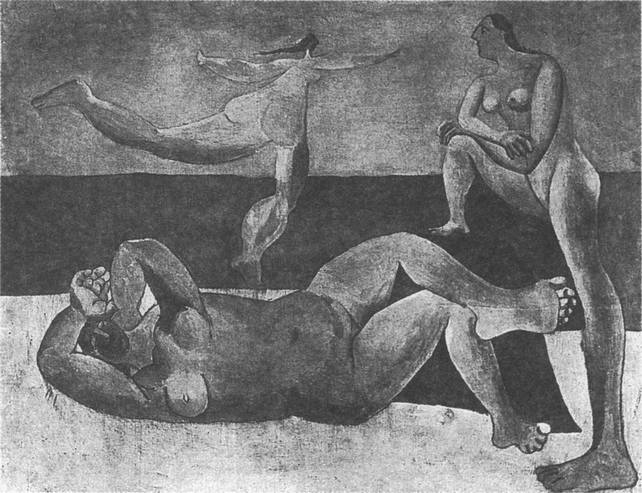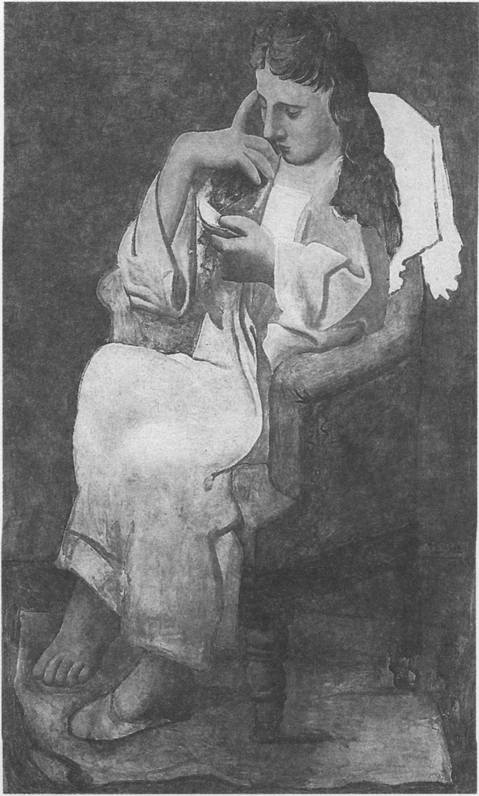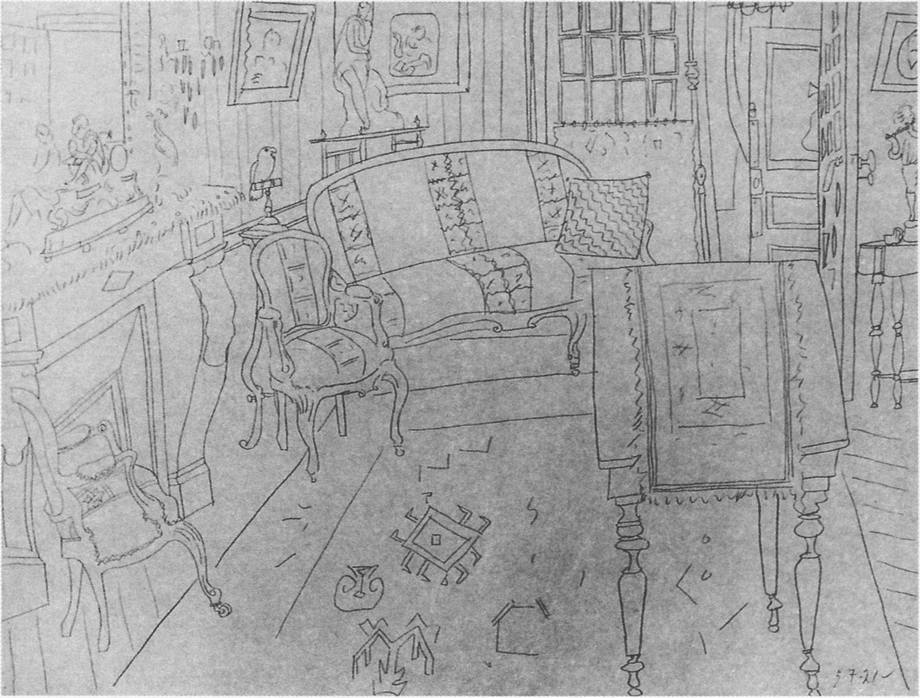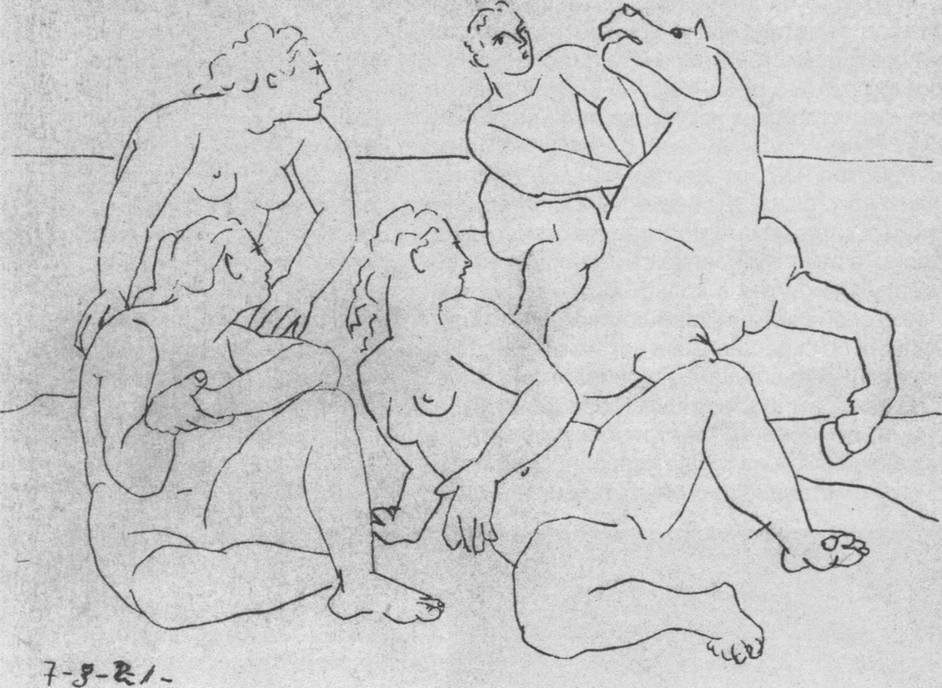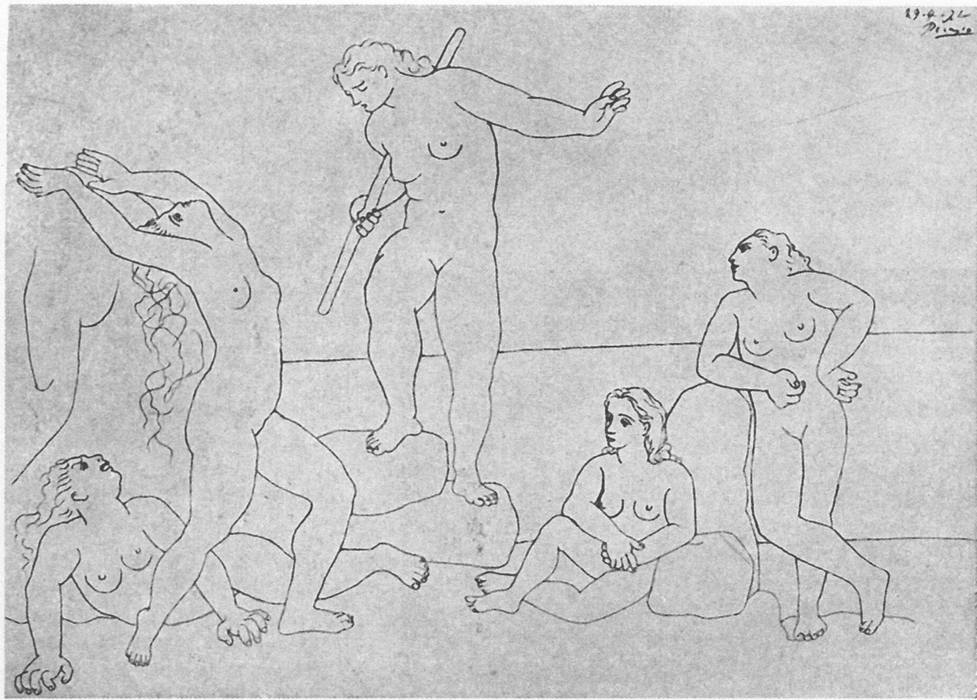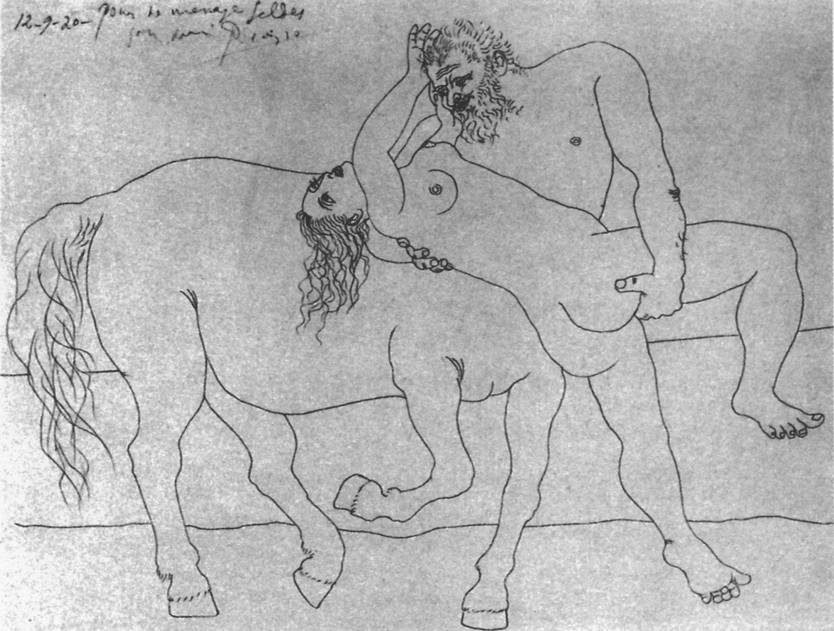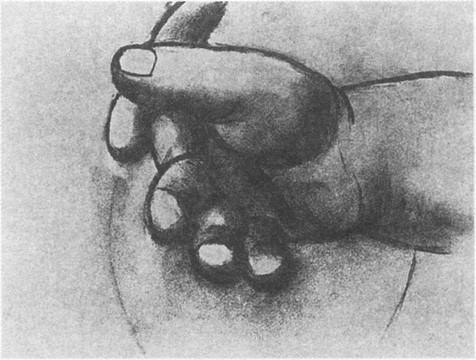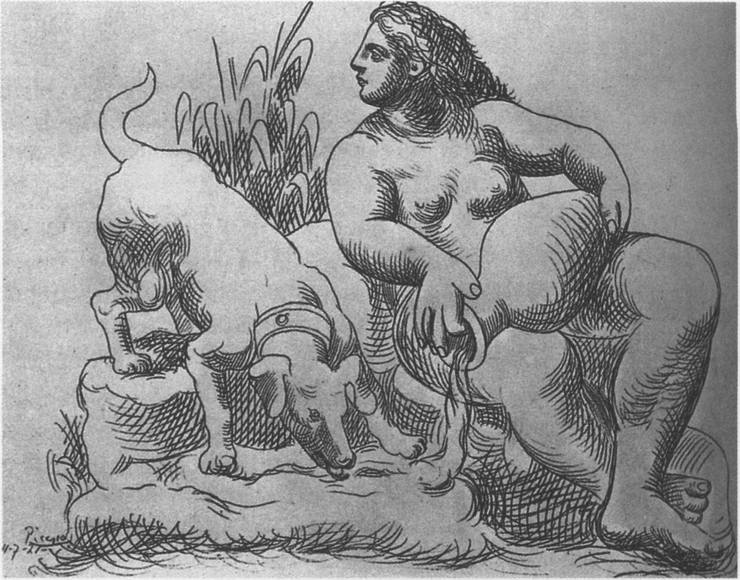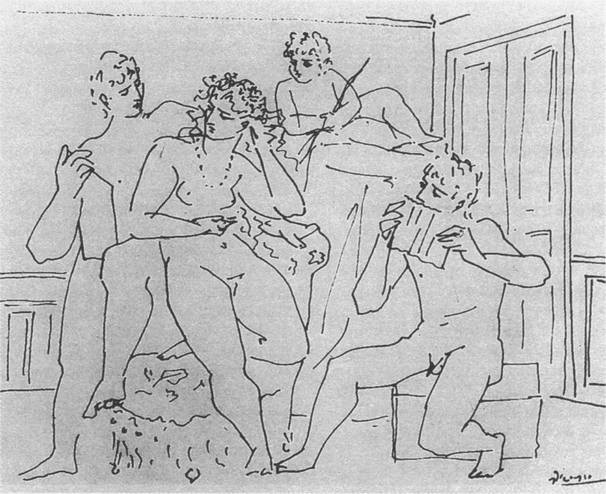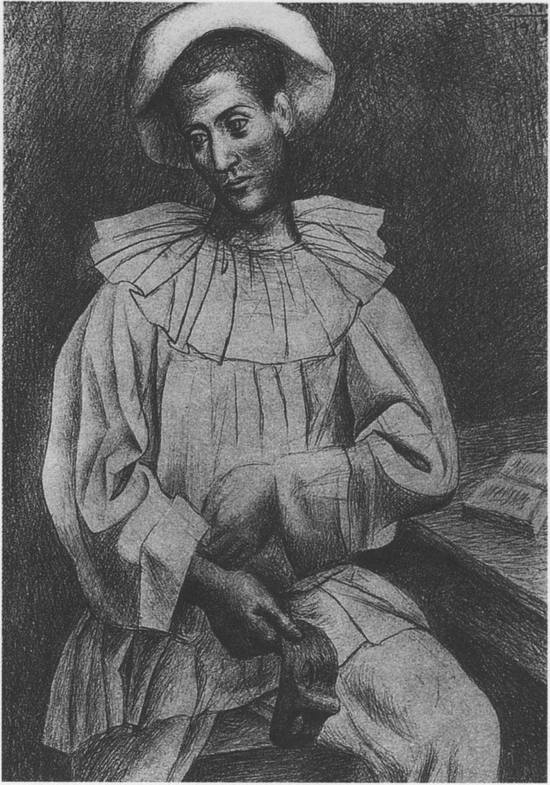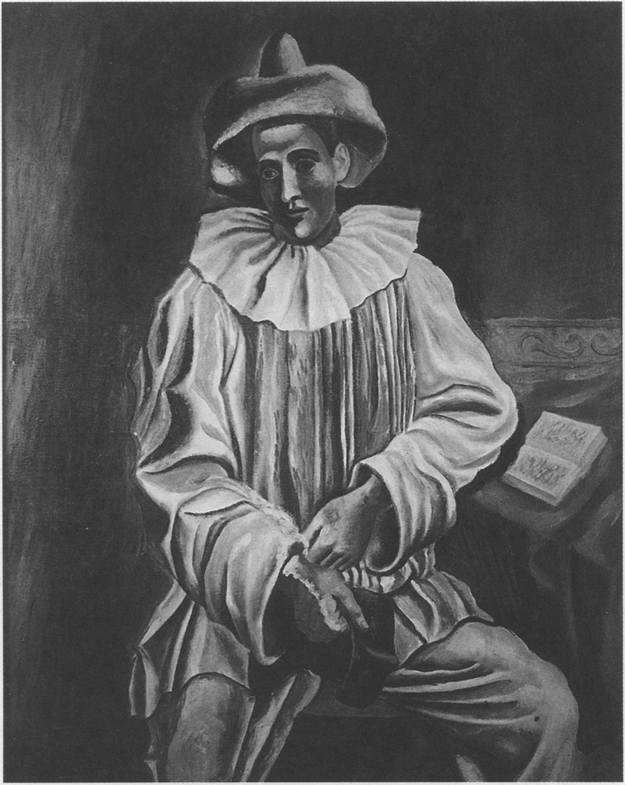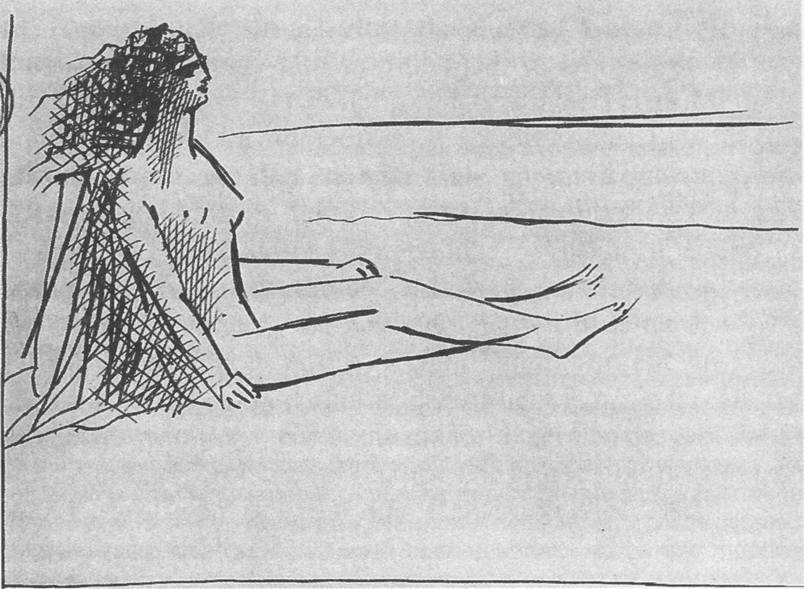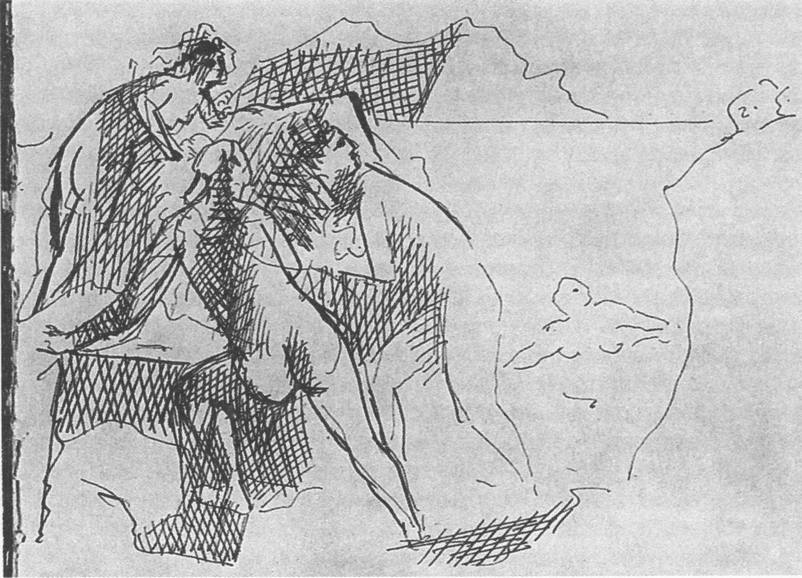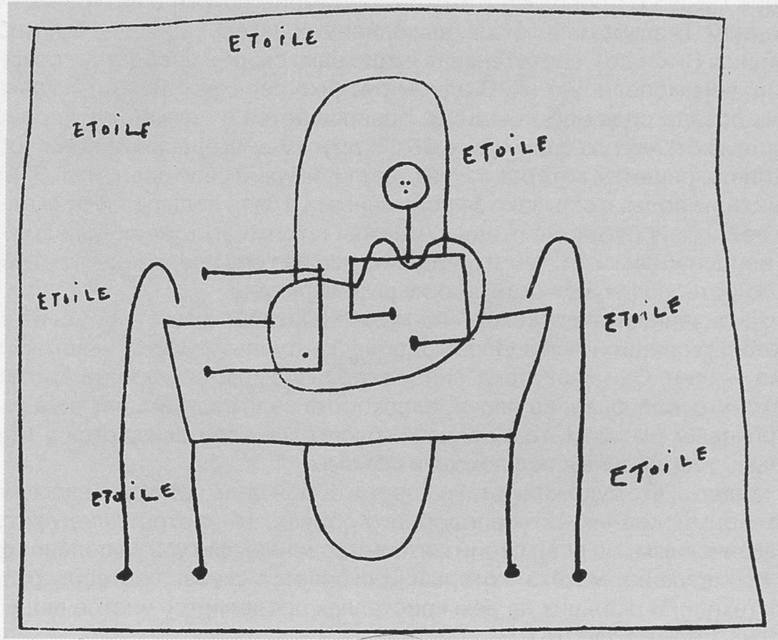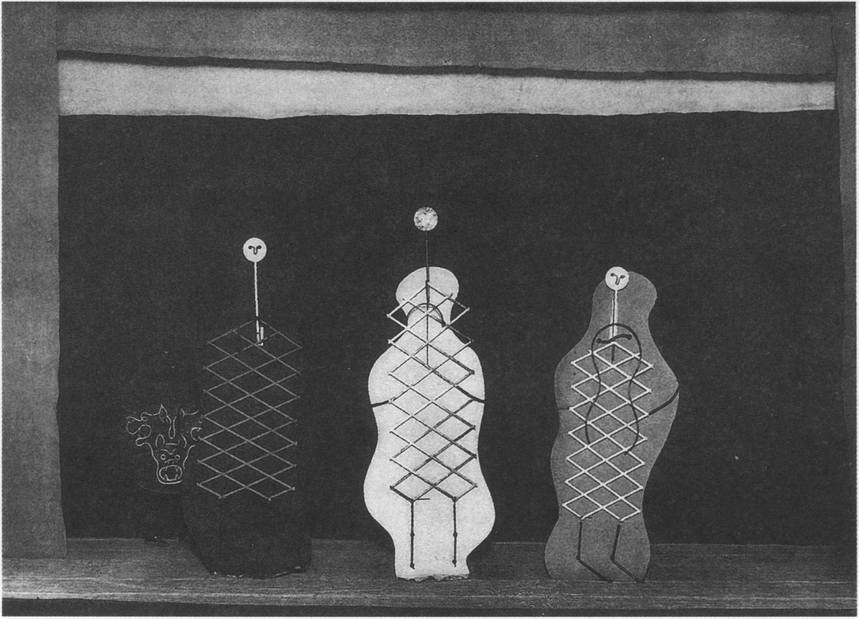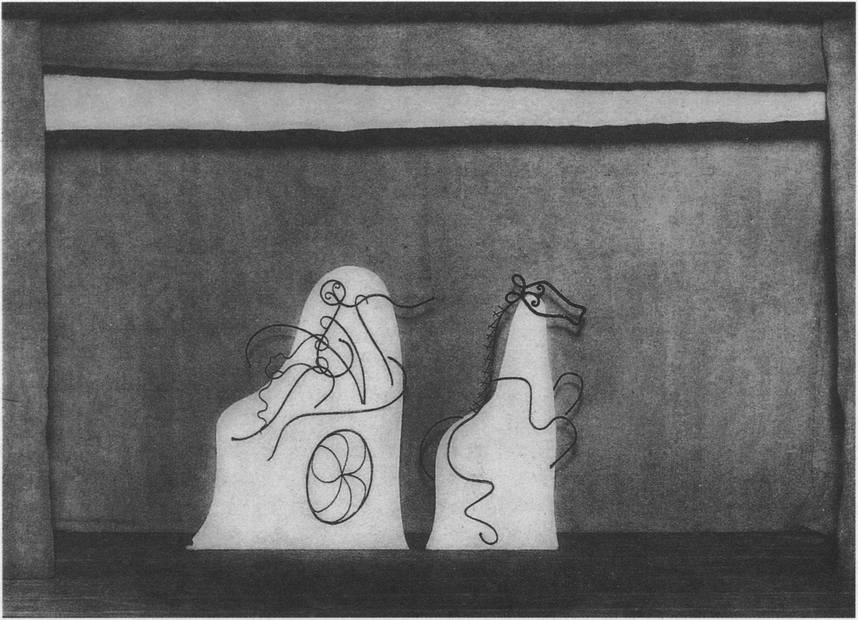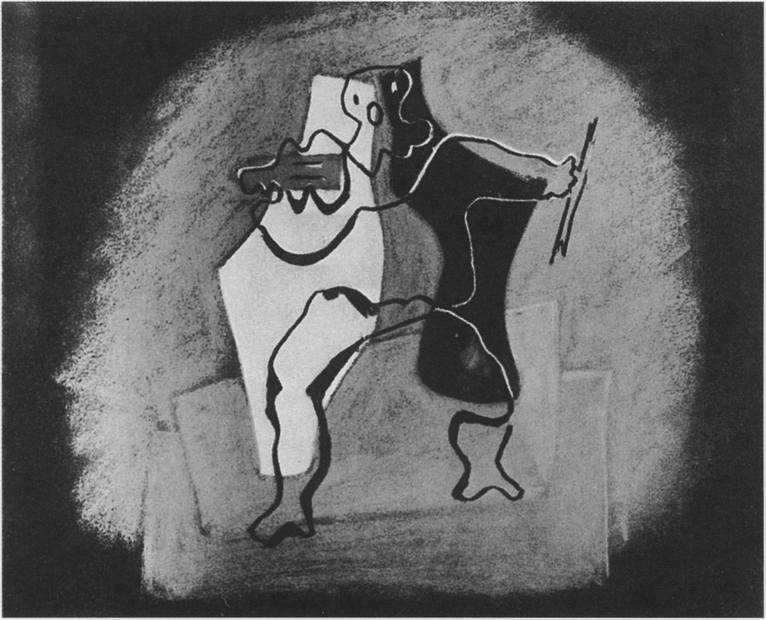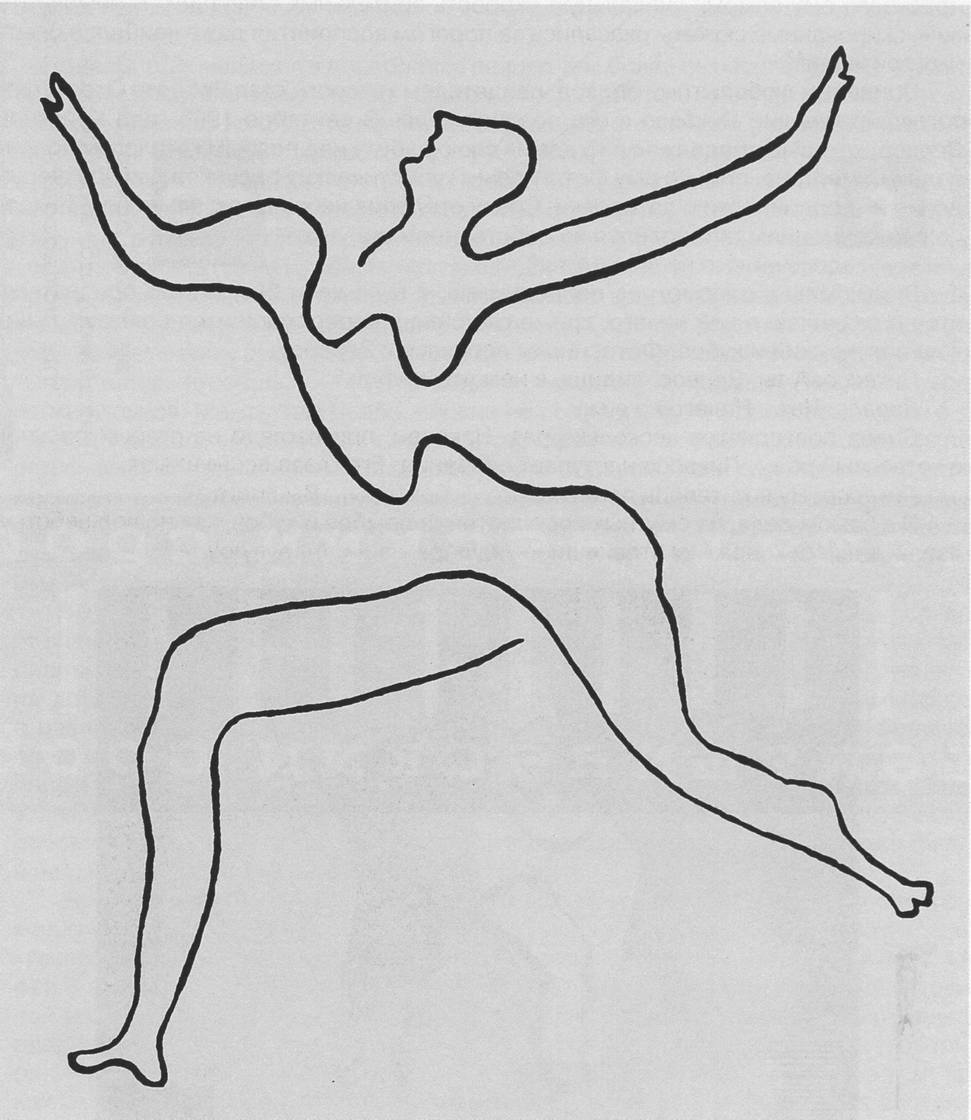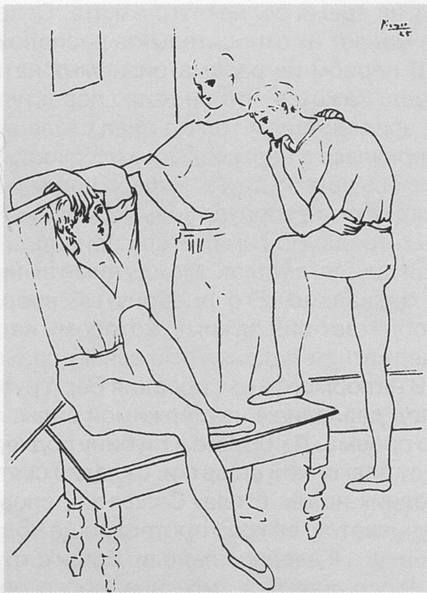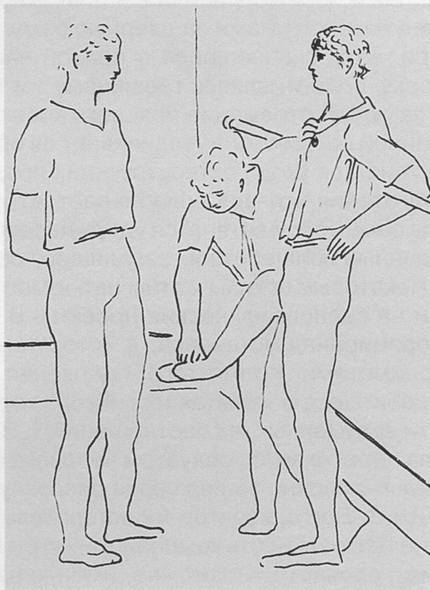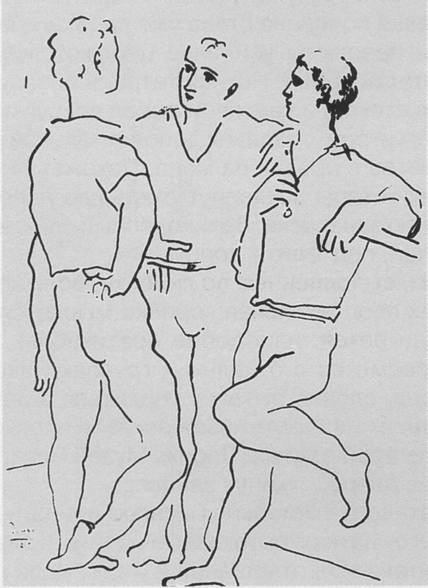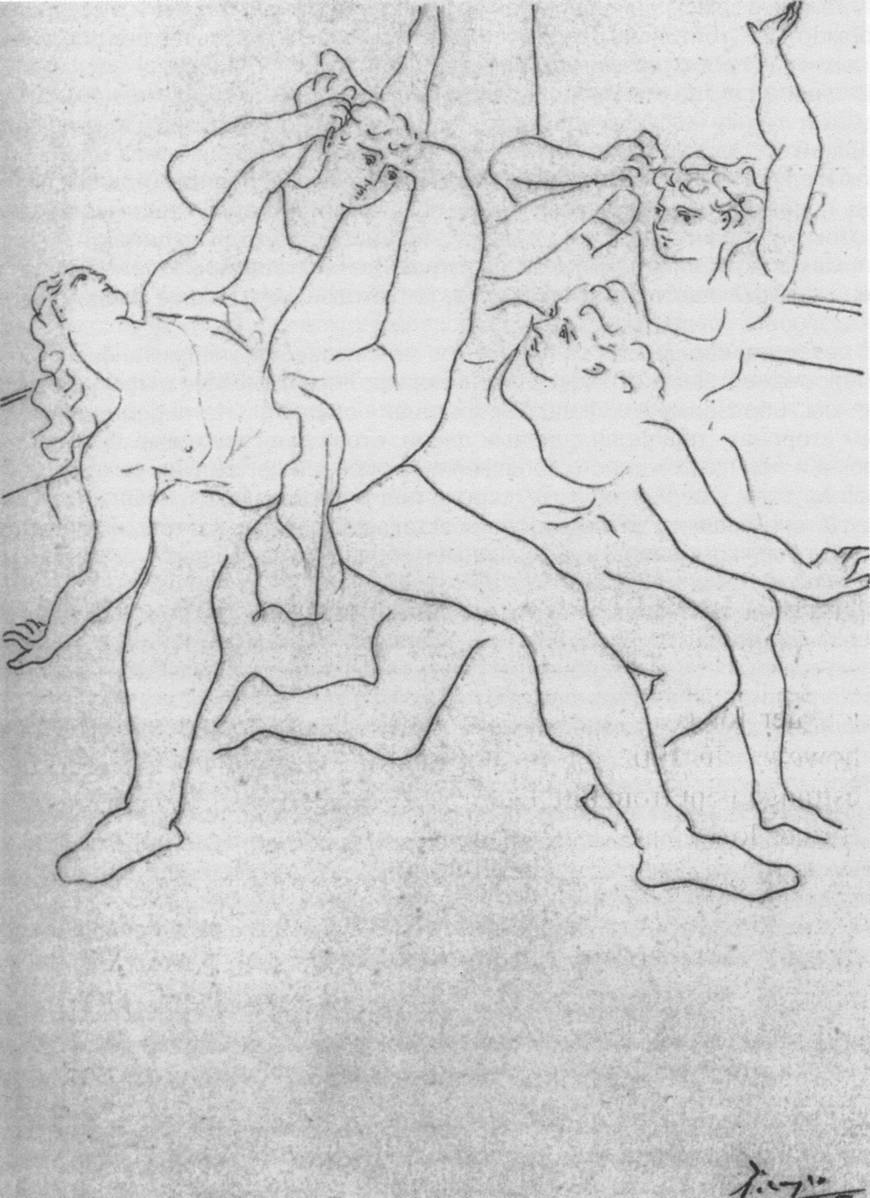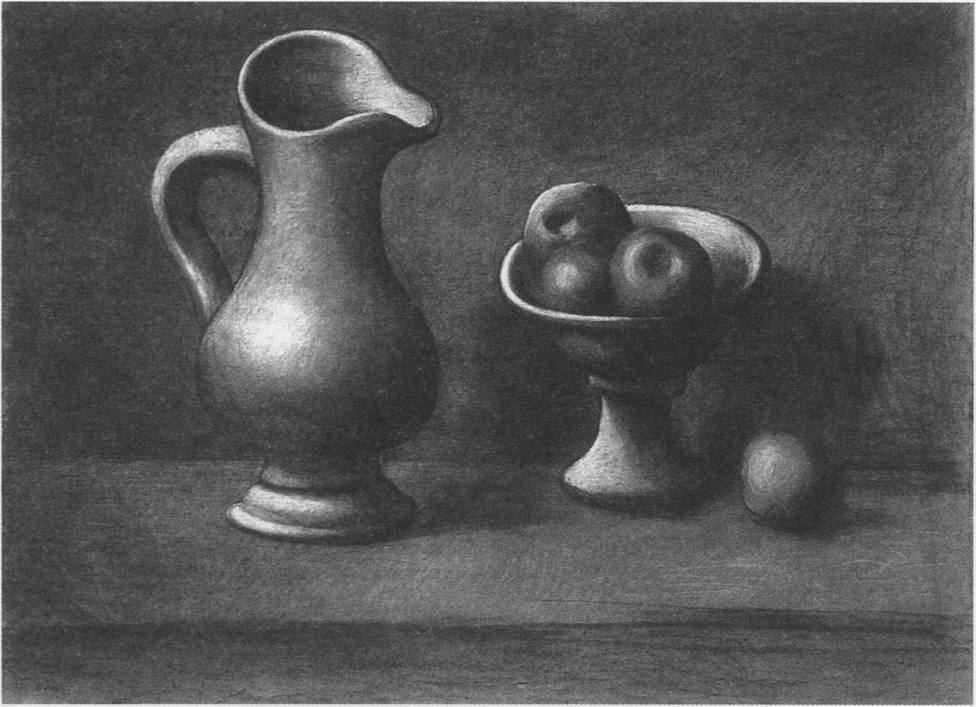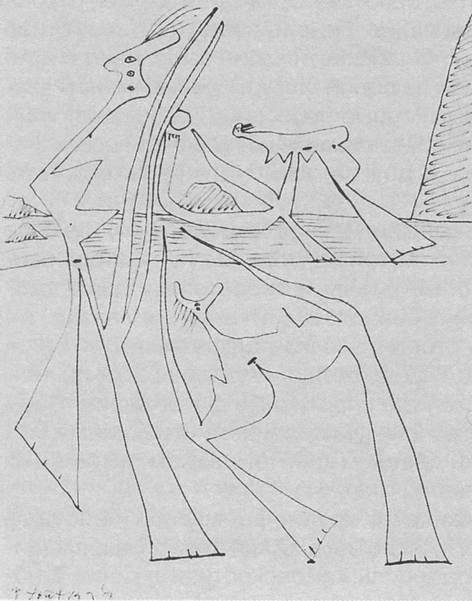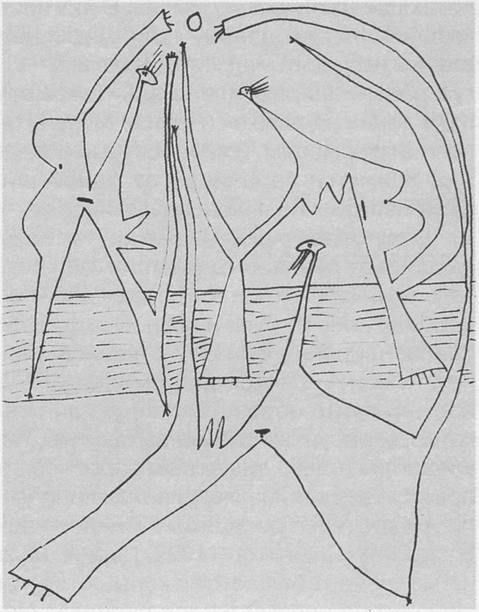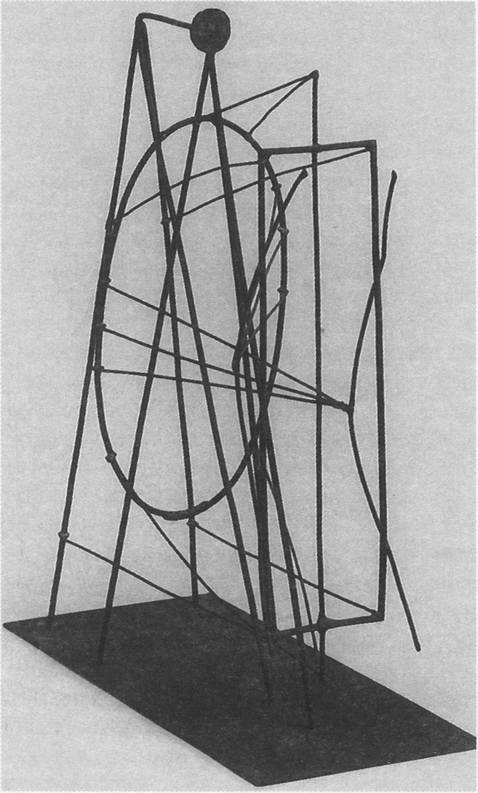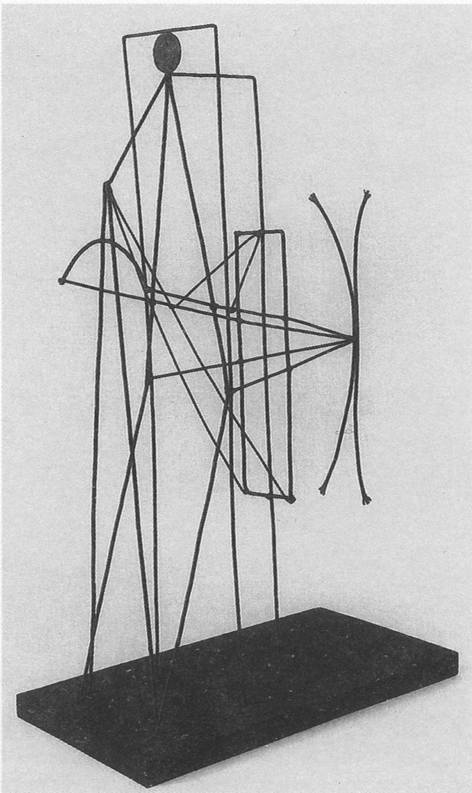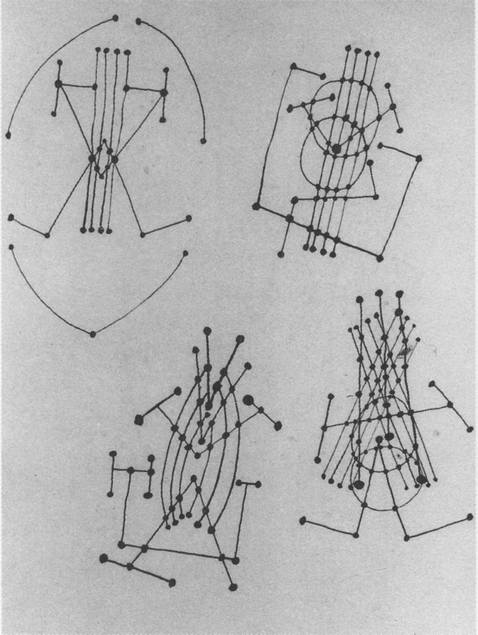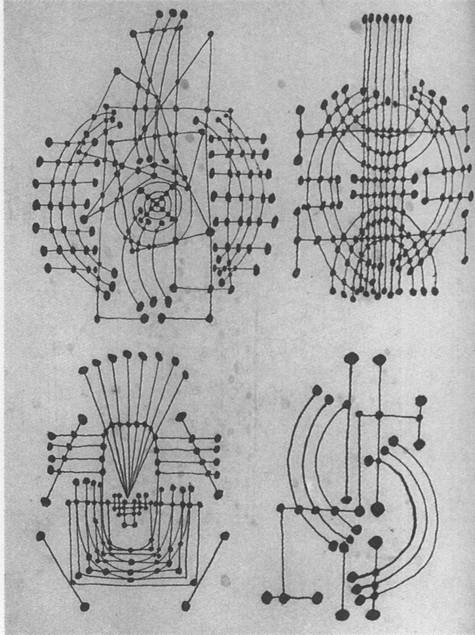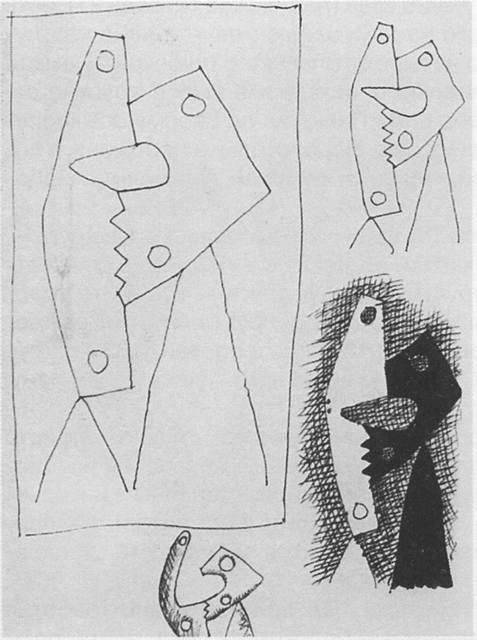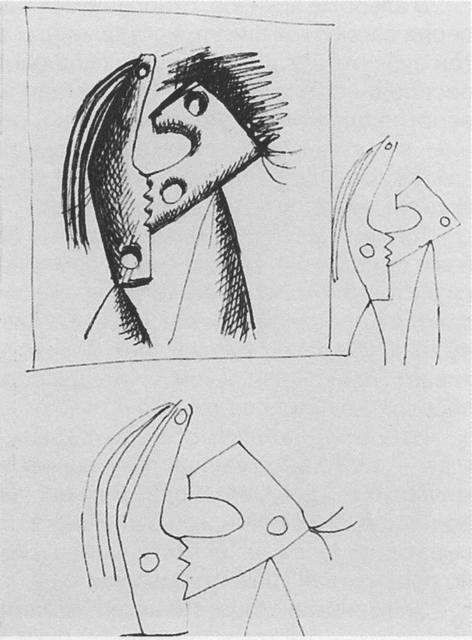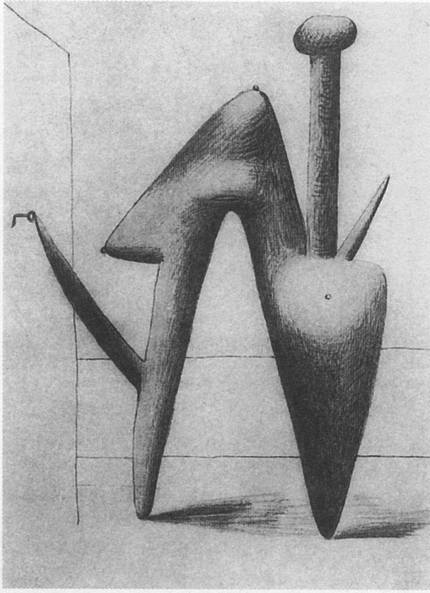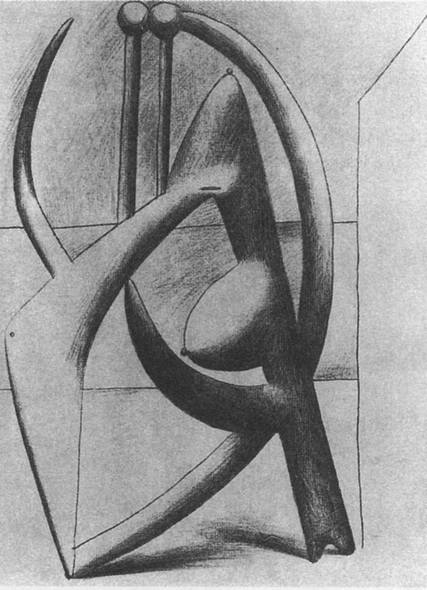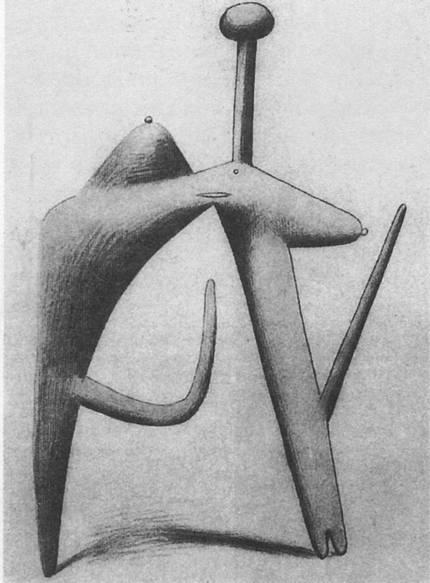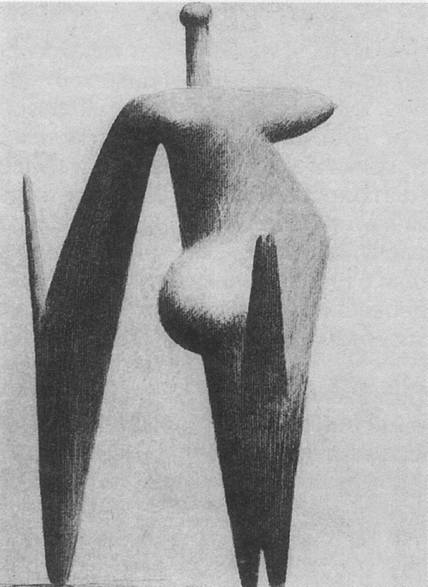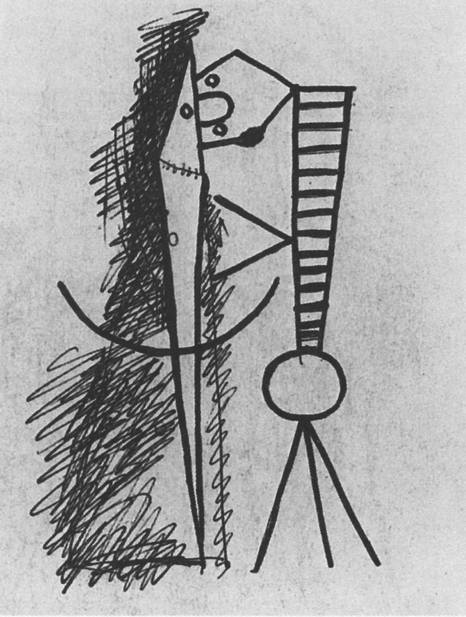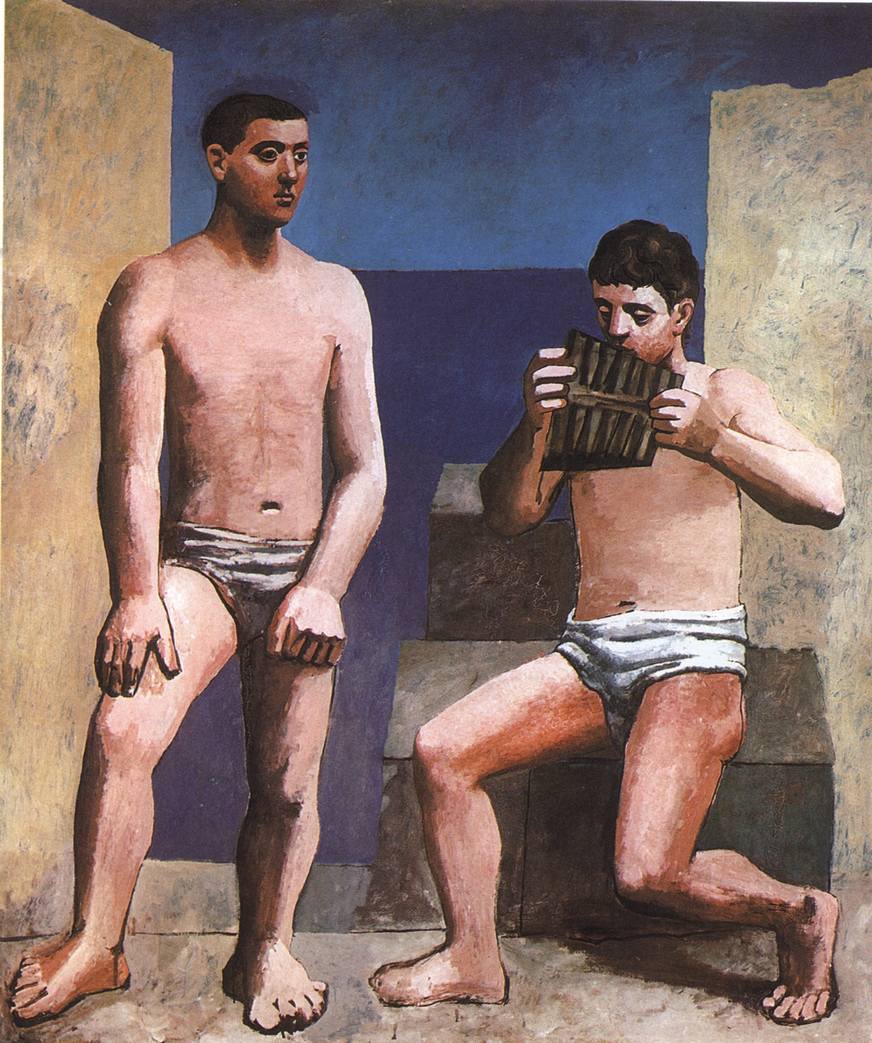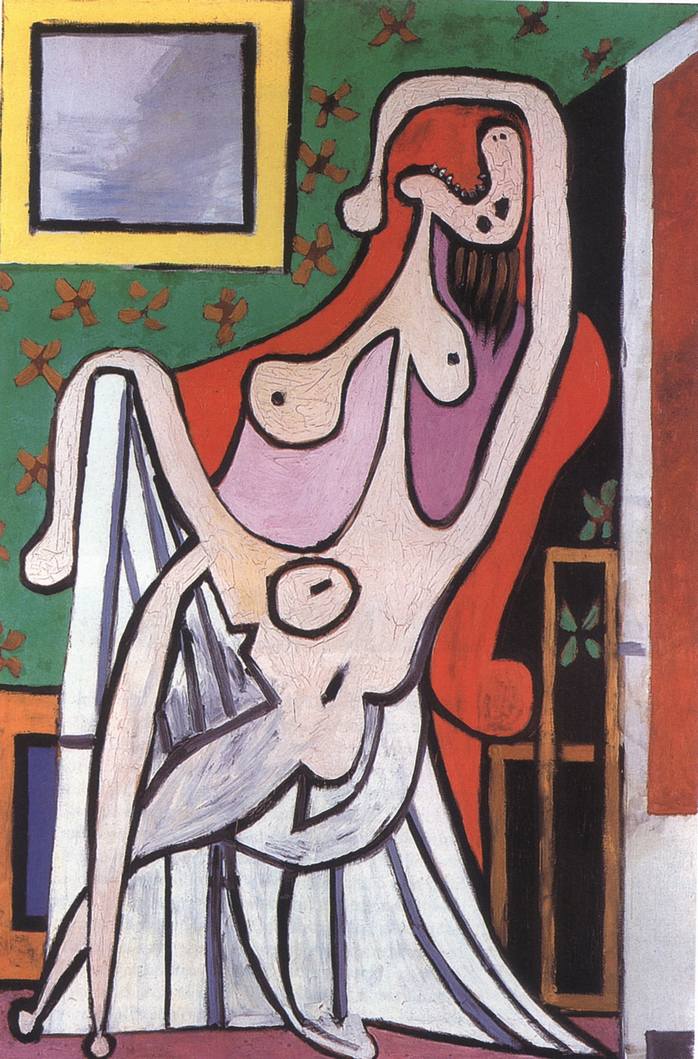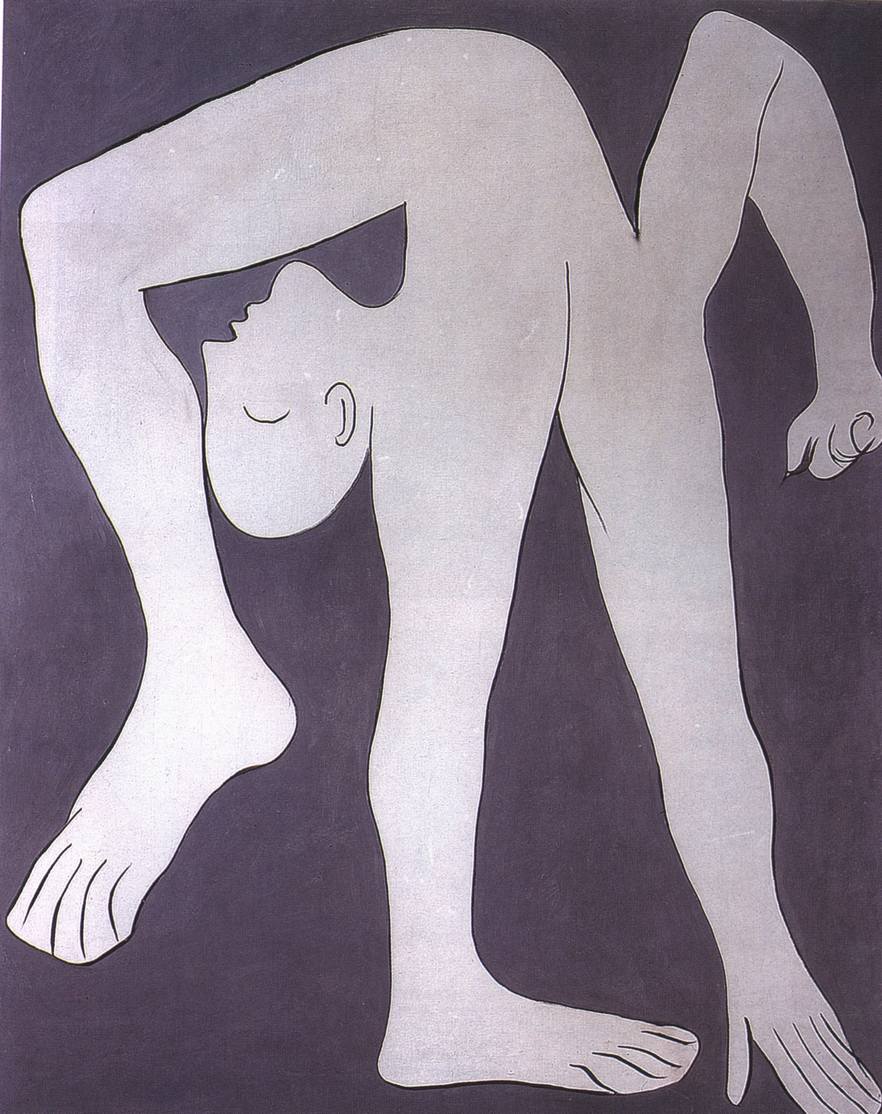а находил их.
|
На правах рекламы: • В Москве создание сайта на Битрикс под ключ - это полный цикл работ от проектирования до запуска. • С русского производства привезли профессиональные тренажеры, цена и качество норм. |
Глава II. Афродиты, арлекины и чудовища. Стилевой плюрализм в творчестве Пикассо конца 1910-1920-х годов. Формальные преобразования как двигатель сюжетаОсенью 1917 года, завершив работу над «Парадом», Пикассо создает полотно, которое представляет собой переложение в дивизионистской манере картины Луи Ленена «Возвращение с крестин» (илл. I, II). Долгое время оно оставалось почти неизвестным, поскольку находилось в собственности художника до конца его жизни, и привлекло к себе внимание лишь с открытием Музея Пикассо в Париже. Картина могла бы послужить введением в пикассовский классицизм. В 1918 году Аполлинер писал своему другу: «Я жду от тебя крупных полотен, подобных картинам Пуссена, и лирики, как в твоей копии Ленена»1. Однако приемы, примененные Пикассо в ремейке картины семнадцатого века, едва ли могли удовлетворить проснувшуюся тогда ностальгию по монументальности и поэтичности классической эпохи. Его «Возвращение с крестин» — конфликтное скрещение двух стилей, далекое от идеала гармонии и «порядка». Поверхность картины — сгущения и разряжения цветных точек, которые то собираются в плотные гроздья, то рассеиваются по поверхности. За мелкоячеистой завесой мелькают абрисы фигур, каких-то предметов и, едва возникнув, исчезают в разноцветных россыпях. Дивизионизм открыл Матиссу путь к консолидации форм, их декоративному обобщению. Подход Пикассо прямо противоположен. Накладывая на реалистическое изображение дивизионистскую сетку, он доводит оба начала до антагонизма. Дрожащее марево поглощает контуры и объемы, не говоря уже о деталях, которые оказываются полностью расфокусированными. Живопись как будто тлеет, подспудный огонь медленно пожирает фигуры. Возникает ощущение, что сама краска, просачиваясь сквозь тонкую эпидерму иллюзорных изображений, разъедает их. Продвигаясь в этом тумане, ориентируясь на цветовые вспышки и проблески, глаз не сразу нащупывает знакомые образы. Наиболее отчетливо проступает фигура мальчика слева. Держа шляпу в руке, он смотрит на нас с лукавой усмешкой. Спиной к нему сидит пожилая женщина со сложенными на коленях руками, в центре поднимает бокал мужчина, глава семейства. Но с фигурой женщины с младенцем, виновником торжества, происходит что-то неладное. Цветные точки в этом месте смыкаются в гроздья, и за их колеблющейся завесой скрываются две фигуры — женщины в платке, склонившей голову к ребенку, и смеющейся румянощекой девчонки с игрушечным белым медвежонком на коленях. Два образа проступают попеременно, сменяясь внезапными скачками, но именно посторонний для картины Ленена персонаж настырно вылезает на передний план, маскируя собой крестьянскую Мадонну. Медвежонок знаком нам по некоторым одновременным портретным рисункам Пикассо, и, запуская в лененовский сюжет свою современницу с любимой игрушкой, художник словно дразнит нас ее неуместностью. Маленькая озорница как будто выскочила из-за кулис и нахально встряла в постановку исторической сцены, заслонив главную героиню. Констелляция точек в этом месте допускает и еще одно прочтение: смутно вырисовывается фигура мастерового в фартуке, устало облокотившегося о колени. Персонажи в таких позах встречаются в других картинах Ленена — «Кузница», «Остановка всадника», «Трапеза крестьян». По-видимому, в картину Пикассо вовлекаются воспоминания и об иных знаменитых образах французского мастера. Синеватая тень в левой части фона весьма напоминает голову ослика из «Семейства молочницы», а лицо пожилой женщины — строгий профиль старухи из «Посещения бабушки». Здесь нас поджидает еще одно чудо: старушечий профиль разворачивается трехчетвертным ракурсом смеющегося женского лица. Механика чуда вполне поддается анализу. Мазки ложатся сплошной мозаикой. Их тона колеблются, но между фоновыми и собственно фигуративными точками нет границы. И когда мы расширяем фокус зрения, находим верный темп подключения соседних точек к профилю, происходит именно это: лицо поворачивается, молодеет, и сурово поджатые губы растягиваются в улыбке. Но вслед за этим превращением меняется видение всей ситуации. Фигуры, затаившиеся за плотной завесой мелких мазков, приходят в движение. Теперь уже кажется, что рука улыбчивой дамы не лежит на колене, а поднимается к сидящему рядом мужчине, который вовсе не похож на почтенного отца семейства в лененовской картине, хотя и занимает его место. Бравый кавалер в лихо заломленном берете куда-то дел свой бокал и освободившейся рукой пожимает ладонь веселой соседки. Между тем мальчик как будто дергает ее за рукав, пытаясь осадить разошедшуюся кокетку. Наверное, он торопится отправиться в путь, потому что шляпа в его руке больше похожа на привязанную к поясу котомку. Чинное семейное торжество по поводу крестин перерастает в гулянку. Колебания образов и связанные с ними сюжетные метаморфозы на этом не кончаются. Лицо любезного кавалера также поворачивается из фасового положения в трехчетвертное и при этом склоняется к плечу, обретая сходство с девичьим ликом. Светлая полоса на плече материализуется в тонкую обнаженную руку, задумчиво поднесенную к подбородку. Что теперь находится в правой руке мерцающего персонажа? Букет цветов? Или его пальцы касаются струн мандолины, угадываемой в большом светящемся пятне в центре картины? Это самое загадочное место композиции, в нем вращается целая связка недопроявленных образов. Мы всматриваемся в картину как в воду, стараясь разглядеть, что мелькает в ее глубинных слоях за поверхностью точечной ряски. Изображения рассыпаются, как песок. Их трудно удержать в восприятии и еще труднее вернуться к ранее увиденной, а затем утерянной форме. То исчезает ребенок, то пропадает только что бывший здесь игрушечный мишка. При работе с репродукцией даже обводка контуров карандашом мало помогает делу. Композиция непрестанно дергается, особенно при перемене угла зрения, и с каждым толчком меняется ее сюжет. Импрессионистическая техника была изобретена, как известно, для передачи подвижности натуры, омытой светом и воздухом. Но кто из ее творцов мог предвидеть, что эту подвижность можно довести до перемещения фигур, до преобразования сюжетных отношений? Образы меняются, как в наплывах кинокадров, но особенно изумительны повороты голов с одновременным изменением физиономического выражения. Не здесь ли начало знаменитых профильно-фасовых портретов Пикассо? Ход превращений центрального персонажа невозможно проследить. Наверное, только хороший психолог, специалист по зрительному восприятию, сможет объяснить, каким образом на месте светлого пятна появляется глаз, а точки, обозначающие тень от шляпы, смыкаются в линию брови. Сюрреалисты считали «движущуюся галлюцинацию» (выражение Макса Эрнста) своим открытием. Как видим, Пикассо не только опередил их, но и намного превзошел в тонкости. Многослойные образы в картинах Дали — надрывные демонстрации «паранойя-критической» методы — не выдерживают сравнения с миражами Пикассо, глубоко запрятанными под тлеющей поверхностью. Немаловажную роль в их возникновении играет формат картины. Величавую горизонталь лененовского жанра-предстояния Пикассо сменяет на вертикаль, вследствие чего сжимаются интервалы между фигурами, подготавливаются их пересечения. Струящиеся образы стекают сверху вниз, и наш взгляд скользит по размножающимся, расслаивающимся в глубину вертикалям. Не постиг ли художник какую-то закономерность нашего восприятия? Вспомним композицию занавеса к «Параду», где горизонталь жанрового сюжета с застольем упирается в перпендикулярную ей связку из четырех фигур, замаскированную под аллегорию. Вспомним квадратный формат композиции занавеса к «Треуголке», где полоса бытового сюжета пересекается вертикальным развертыванием контекста, в котором обнаруживается иной смысл сцены, зажатой между ареной корриды и ступенькой с натюрмортом. С пикассовскими вертикалями мы встретимся еще не раз, и на этом вопросе следует остановиться особо. Обычно взгляд панорамирует пространство вдоль плоскости горизонтального полукружья. Продвигаясь в этом направлении, заданном условиями гравитации, мы перебираем объекты, прослеживаем ситуации, наблюдаем за течением событий. Само выражение «поле зрения» точно определяет главную ориентацию человеческого глаза. Поэтому для тематической, особенно жанровой, картины наиболее естественно расположение фигур по горизонтали — так развертывается повествование, легко проступают отношения между персонажами и ситуативные связи, аналогичные связям слов в предложении. Движение взгляда по вертикальной оси, напротив, является чаще всего вынужденным, спровоцированным необычными обстоятельствами. Что-то заставило нас откинуть голову и посмотреть вверх. Равномерное последовательное панорамирование прервалось рывком в перпендикулярном направлении. При этом мы лишь скользнули снизу вверх, остановившись на том, что привлекло наше внимание. Не пропущено ли в этом быстром взмахе что-то существенное, не затаилось ли между двумя фиксированными точками нечто, о чем мы не подозревали? Следя за вертикальными потоками в картине Пикассо, мы действительно обнаруживаем эти пропуски, оплошности взгляда, испытывая при этом радость первооткрывателя. Есть нечто поистине колдовское в том, как из-за точечной завесы, сквозь ее ниспадающие складки начинают выглядывать друг за другом образы — непредвиденные, отсутствующие в картине Ленена. Испытывая серию зрительных инсайтов, мы начинаем понимать, что имел в виду Пикассо, когда приравнивал искусство к магии — нечто вполне конкретное, наваждения, которые можно созерцать въявь. Фигуры разномасштабны, причем в увеличении даны те из них, что у Ленена расположены в более глубоких пространственных слоях — мальчика и мужчины с бокалом. Характерная для французского мастера расстановка фигур в шахматном порядке сохраняется, но их перспективные соотношения меняются на противоположные. Эти преобразования провоцируются смятой геометрией пространства. Пикассо мыслит живописную поверхность как мягкую ткань, вовлекая холщовую основу картины в ее образный строй. При сжимании исходного формата в вертикаль полотно вспучивается фалдами и, следуя за этим волнообразным движением, фигуры увеличиваются или сокращаются в масштабе. Под прикрытием складок и пробираются в картину «посторонние лица». Входящий в дверь мальчик на заднем плане словно протискивается в какую-то щель, съеживаясь в узкий столбик красочных точек. Этот мысленный эксперимент, на первый взгляд неожиданный, вполне логично вытекает из присущей дивизионизму тканеподобной структуры живописной поверхности. Явление спонтанного мимесиса, проистекающее из нацеленности человеческого глаза на предметное видение, широко использовалось в искусстве разных эпох, от первобытности до современности2. И все же нельзя не подивиться изощренности, с которой Пикассо подбирает отмычки к тайникам нашего восприятия, пробуждает и приводит в действие его резервы. Художник втягивает зрителя в некое виртуальное пространство, где красочные корпускулы слипаются в тела энергией ищущего, нащупывающего форму зрения. Поскольку движения глаза невозможно предусмотреть, неизбежны постоянные рекомбинации, перетасовки точек. Это означает, что и фигуры, и тем более сюжетные отношения между ними имеют вероятностный характер. Параметр субъективной вероятности заложен в художественный строй картины, и, стало быть, никакая интерпретация ее образов не может претендовать на единственность и абсолютную достоверность. «Классицизм» Пикассо трудно заподозрить в простодушном реставраторстве. Долгое время считалось, что он складывался как намеренное подражание манере Энгра. Однако это мнение было сильно поколеблено с открытием фотоархивов Пикассо, где были обнаружены фотографические прототипы для многих «энгристских» портретов и рисунков. Архив насчитывает несколько тысяч снимков, в большинстве случаев сделанных самим художником и относящихся к разным периодам его творчества, начиная с первых лет пребывания в Париже. Пикассо фиксировал разные этапы работы над картиной, экспериментировал со световыми эффектами, двойными экспозициями, использовал фотоснимки в качестве «этюдов» к живописным и графическим произведениям. Публикации Ан Бальдассари, хранителя фотоотдела Музея Пикассо, позволяют заглянуть в один из уголков творческой лаборатории мастера, проследить методы его работы3. Обратимся к самому знаменитому «энгровскому» полотну — портрету Ольги Хохловой, который в настоящее время датируется весной 1918 года (Париж, Музей Пикассо, илл. III)4. Овеянный риторикой о возрождении классической традиции, он всегда производил странное впечатление и незаконченностью фона при детальной проработке фигуры, и особенно — неуловимостью позы модели, которая то ли стоит, опираясь ногой о стену, то ли делает шаг вперед, то ли сидит на невидимом стуле. Внимательное изучение исходной фотографии (илл. 1) снимает эти недоумения, но и ставит новые вопросы. Пикассо оперирует фотоснимком так, что в результате едва заметных манипуляций меняется сама запечатленная реальность, и копия копии предстает в полном смысле слова обманкой, trompe-l'œil. Прежде всего, это касается сложного, хаотичного антуража мастерской, в котором запечатлена Ольга на фотографии. В портрете он отсутствует, но с его исчезновением наш глаз лишается важных опорных точек, и модель, выключенная из окружающей среды, зависает в вакууме в неопределенной позиции. На снимке Ольга удобно расположилась в кресле, повернувшись к камере вполоборота, закинув ногу на ногу и опираясь далеко отодвинутой стопой на толстый фолиант. В картине ее ноги срезаны нижним краем холста на том же уровне, что и ноги раскланивающегося Арлекина в рисунке 1917 года и наездницы в занавесе к «Параду». Видимо, Пикассо заметил, сколь значима позиция ступней для устойчивой ориентации фигуры в пространстве. В результате этой простой операции модель поворачивается из трехчетвертного положения точно в фас. Эффект смены ракурса так силен, что трудно отделаться от мысли: должна была существовать какая-то другая фотография, снятая под другим углом. И, только изолировав каким-либо способом центральный овал, мы убедимся: все верно, это тот самый снимок, по которому работал Пикассо. И, словно насмехаясь над нашим недоверием, он подсовывает «вещественную улику» случившегося поворота: вырез платья, в фотографии крепко натянутый откинутой рукой, вдруг провисает, изгибаясь капризной волной5. Чем внимательнее мы сравниваем картину с фотоснимком, тем больше обнаруживаем удивительных расхождений. Положение приподнятого колена осталось прежним, но лежащая на нем рука с веером дана в ракурсе сверху. В результате фигура распрямляется и драпировки ее платья падают вертикально. С той же верхней точки представлено сиденье кресла, так что теперь его обивка, оказавшись в одной плоскости с обивкой спинки, сливается с ней и превращается в висящую шаль, расписанную пышным цветочным узором. В литературе часто встречается утверждение, что модель в портрете идеализирована в соответствии с классическим каноном — овал лица удлинен, а пропорции фигуры вытянуты. Но одновременно сократившаяся правая рука выдает иную логику преобразования. По всей видимости, Пикассо просто слегка повернул плоскость фотографии по вертикальной оси, так что «идеализация» — лишь сопутствующий эффект перспективного сокращения. Все эти повороты, смещения, смены ракурсов заставляют вспомнить о кубизме, хотя здесь разные грани изображаемой формы точно пригнаны друг к другу и швы между ними заделаны с безукоризненной тщательностью. В своей давней книге Роберт Розенблюм тонко подметил сходство портрета Ольги с коллажем: «Такая живопись, ввиду ее неодолимой, непроницаемой плоскостности, обретает сходство с аппликацией, словно вырезанные живописные фрагменты приколоты к холсту, как бабочки к бумаге. Если прежде Пикассо и Брак чередовали наклейки, имитирующие древесные текстуры, с их живописными повторениями, то и здесь цветочный узор больше похож на прилепленную к холсту, созданную машиной иллюзорную материю, чем на рукотворную живописную иллюзию. Вопросы, поставленные кубизмом, уже нельзя было отозвать»6.
Глаз американского искусствоведа точно уловил связь изобразительной формы портрета с кубистическими принципами. Знакомство с фотооригиналом позволяет продолжить его мысль. В результате манипуляций с ним «копия реальности» переводится в ирреальный план. Модель не сидит и не стоит, кресло словно выдернуто из-под вольно расположившейся на нем дамы рукой коварного шутника. Реальная женщина, конечно, упала бы, но перед нами изображение изображения, пестро раскрашенный картонный силуэт, раскачивающийся в разных направлениях. Особенно замечательна система скользящих, убегающих друг из-под друга опор: приподнятое и словно остановившееся в полушаге колено, лежащая на нем рука с выскальзывающим веером, распрямившееся в вертикальную плоскость сиденье кресла, висящая в воздухе шаль с беспечно положенной на нее рукой. Модель сдвинута вправо и вниз. Значительное пространство над ее головой создает ощущение длящегося падения фигуры, а ее легкий наклон — вполне естественный в фотографии, но здесь ничем не мотивированный — вызывает впечатление покачивания вдоль плоскости и легких вращений вокруг вертикальной оси. Фигура словно подвешена на невидимой нити, как мобиль Колдера7. В «классицистском» портрете воспроизводится та же динамическая схема, что и в «Арлекине» 1915 года, с его раскачивающимися в разных направлениях расписными фанерками. Эти наблюдения позволяют решить по сей день дискутируемый вопрос о законченности портрета. Он безусловно закончен. Пикассо нужен был этот пустой фон, подчеркнутый небрежными пробегами кисти, ибо только в таком «виртуальном» пространстве могут проявляться колебания его ирреальной реальности. Известный исследователь творчества Пикассо Пьер Дэкс полагает, что художник «мог бы отправить свою Ольгу прямо в Лувр», поскольку «в этой картине он достиг синтеза. Он понял, что есть общего между Пуссеном, Энгром и Сезанном, а также теми поисками, которыми были заняты Брак и он сам в великий период кубистических открытий. Это — совершенная упорядоченность и строгость композиции, в которой возможности живописи доводятся до высшей степени силы и чистоты»8. В Лувре картонная кукла Ольги пришлась бы явно не ко двору. «Классическая чистота» портрета — личина, скрывающая внутреннюю противоречивость натуроподобного образа. Оказывается, последовательно иллюзорную систему можно разбалансировать, по видимости следуя ее собственной логике и лишь исподтишка нарушая некоторые предписания. По сути, изобразительные софизмы Пикассо дают версию курьезного, потешного энгризма. Художник как будто прилежно трудится, старательно выводит детали, но при этом вся система выходит из-под его контроля и, обнаруживая свою подлинную, иллюзорно-обманчивую сущность, своенравно творит совсем иную реальность — немыслимую и несбыточную.
Портрет Ольги показывает, сколь неуместны были и восторги по поводу возвращения недавнего бунтаря в лоно классической традиции, и разочарованные вздохи тех, кто увидел в этом повороте пагубное влияние светской среды, толкнувшей художника на стезю салонного искусства. Пикассо продолжал свой путь первопроходца — ведь и в самом деле, «вопросы, поставленные кубизмом, уже нельзя было отозвать». К 1919 году относится загадочная и мало исследованная картина — «Влюбленные» (Париж, Музей Пикассо, илл. XXVII). Две фигуры, мужская и женская, сформированы пересекающимися плоскостями. По обе стороны от них прочерчены прямоугольники висящих на стене картин, одна из которых снабжена надписью: manet. Выдвинуто предположение, что Пикассо исходил здесь из картины Мане «Нана», представив героиню и ее посетителя в уютно обустроенном домашнем интерьере9. Майкл Фицджеральд, автор основательного исследования о взаимоотношениях Пикассо с его дилерами, не отвергая этой версии, склоняется к тому, что был и другой прототип — одна из картин Ренуара с изображением танцующей пары10. Не вдаваясь в обсуждение трудноразрешимого вопроса об иконографических источниках композиции, отметим некоторые особенности, указывающие на ее программный характер. Обе фигуры представлены в масках — типичный мотив пикассовских Арлекинов и Пьеро. Они не танцуют, а сидят на маленькой кушетке с темно-красной обивкой — обычный элемент меблировки театральных фойе и музейных залов. Справа виден край деревянной панели. Судя по фотографиям, такими панелями были обшиты стены галереи Поля Розенберга, постоянного дилера Пикассо в этот период. Галерея была переоборудована в 1925 году. На фотографиях 1926 года мы видим мягкие кожаные кресла для посетителей. Они выдержаны в стиле ар деко и явно сменили другие, более старомодные сиденья. Как следует из подробного изложения Фицджеральда, галерея Поля Розенберга, находившаяся по соседству с домом Пикассо, специализировалась на французской живописи XIX века. Через нее проходило большое количество картин Мане, Моне, Ренуара, Писсарро, Сислея, Редона. В октябре 1919 года, незадолго до написания «Влюбленных», здесь состоялась выставка Пикассо, на которой были показаны его рисунки и акварели разных лет. Видимо, подлинная тема картины — триумфальное вхождение кубистической стилистики в контекст искусства прошлого века. Предположение, что Пикассо переиначил здесь какое-то полотно Мане, остается в силе, но возможна и другая трактовка, к которой подталкивает написание имени Мане со строчной буквы. Речь может идти о «неком Мане», то есть о картине его руки. Пикассо явно пародирует манеру главы батиньольской школы, разбрасывая по холсту длинные извилистые мазки и повторяя характерные цветовые сочетания черного, красного, белого и голубого. Вероятно, в мужской фигуре представлен художник: белая форма в ее центре похожа и на пластрон крахмальной манишки, и на палитру. Усевшись посреди выставочного зала, в окружении прославленных картин, он одной рукой обнимает подругу, а другой поднимает бокал, празднуя свое торжество. Важно обратить внимание еще на одну деталь. Под ногами персонажей смятая газета с обрывком заголовка: sigean. В газете «L'Intransigeant» раздел художественной критики долгое время вели друзья Пикассо — в кубистический период Андре Сальмон, затем Гийом Аполлинер, которого сменил Морис Рейналь, а еще позднее это место занял Эмиль Териад. Но именно в этой газете появилась двусмысленная рецензия на выставку в галерее Розенберга, автор которой приветствовал отход Пикассо от кубизма такими словами: «Он ловко пируэтирует вокруг кубизма, который теперь наскучил ему. Он перескакивает через импрессионизм. Он походя задевает Курбе и падает ниц перед господином Энгром, который шлет ему свой пламенный привет»11. Насмешливый тон рецензии, видимо, задел Пикассо, который в то время еще был внимателен к откликам прессы, и его празднующие победу персонажи, кубистические до карикатурности, попирают ногами презренный листок. В книге Фицджеральда творчество Пикассо рассматривается сквозь призму рынка. Обращение художника к классицизму объясняется большим успехом его работ розового и голубого периодов на аукционе дилерского объединения «Медвежья шкура», состоявшемся в 1914 году. Последующую приверженность Пикассо классическим формам автор напрямую связывает с его пребыванием в beaux quartiers, элитном районе Парижа, и нацеленностью на коммерческий успех. Роль рынка в становлении направлений модернизма и укреплении их позиций несомненна. Но предположение, что талантливый художник, самозабвенно отдававшийся своей работе, мог в течение десяти лет подлаживаться под вкусы среднего покупателя картин, кажется неправдоподобным. Еще в 1914 году, показывая Канвайлеру свои первые «энгровские» рисунки, Пикассо промолвил: «Правда ведь, теперь это выглядит лучше, чем раньше?»12 «Теперь» — значит после кубизма, в перспективе кубизма. И эта перспектива была обратной. Кубистическая аналитика формы перевоспитала глаз, переключила внимание с предметного мотива на способ его передачи, с изобразительного текста — на текстуру изобразительного языка. В 1919 году Пикассо выполнил по фотографиям карандашные портреты Сергея Дягилева и Альфреда Селигсберга, Огюста Ренуара (Париж, Музей Пикассо, илл. 3, 4). Упорные, многократно повторявшиеся опыты с фотографией были своего рода разведывательными операциями, замерами на соседней с живописью местности. И Пикассо умел извлечь из этих экспериментов ценные сведения. Известно, что константность формы обеспечивается деятельностью мозга, который корректирует перспективные искажения, позволяя верно оценивать размеры предметов. Механический аппарат не способен к таким корректировкам, и эта особенность становится явной при прорисовке фотоснимка, когда его линейный остов отделяется от светотеневого тумана: перспективные сокращения утрируются, выставленные вперед руки и ноги кажутся огромными по сравнению с лицами в глубине. Заметив это нарушение масштабных соотношений, Пикассо доводит его до гротеска. В его рисунках возникает племя микроцефалов, как в «Семейном портрете» (1919, частное собрание), выполненном по визитной карточке девятнадцатого века (илл. 5, 6).
Следует сказать еще об одном информационном сбое, неизбежно возникающем при транспозиции светотеневых градаций в жесткую линию: утрачивается ощущение тяжести. Человеческие фигуры выглядят как пустые оболочки, висящие в пустоте13. Результаты экспериментов с механической оптикой Пикассо использовал в карандашных портретах Эрика Сати, Мануэля де Фалья, Игоря Стравинского (все — 1920, Париж, Музей Пикассо, илл. 7, 8). Раньше высказывалось предположение, что они также выполнены по ныне утерянным снимкам. Однако, по свидетельству художника Доменека Карлеса, Пикассо делал их с натуры14. В этих портретах четкие, твердые линии прочерчивают все детали, вплоть до мелких складок, пуговиц и петлиц, узора на галстуке. Карандаш движется с неизменно ровным нажимом, нет ни полутонов, ни пропусков-намеков — только черные линии и штрихи, пронзающие белизну бумаги.
Позднее, в беседе с Канвайлером, Пикассо скажет: «Только линейный рисунок не является подражательным... Линейный рисунок обладает собственным, внутренним светом, а не имитирует его»15. Это суждение, высказанное по поводу иллюстраций к «Метаморфозам», многое объясняет в «классицистской» графике Пикассо. В природе нет линий — только цвета и объемы, нет их и в фотографии, где форма возникает из распределения света и тени. Но что будет, если светотеневые перепады на границах объектов прочертить «неподражательной» линией? Возникнет абстракция предметной формы, правдоподобие которой, если подумать, должно удивлять. Хорошо известен рассказ Стравинского об анекдотичном случае, произошедшем с ним при пересечении итало-швейцарской границы: «Я вез с собой свой портрет, незадолго до того нарисованный Пикассо. Когда военные власти стали осматривать мой багаж, они наткнулись на этот рисунок и ни за что не хотели его пропустить. Меня спросили, что это такое, и когда я сказал, что это мой портрет, нарисованный одним очень известным художником, мне не поверили: «Это не портрет, а план», — сказали они. «Да, это план моего лица, а не чего-либо другого», — уверял я. Однако убедить этих господ мне так и не удалось»16. (Поскольку Стравинский относит этот эпизод к военному времени, речь идет, скорее всего, о рисунке, выполненном в 1917 году в той же классицистской манере, что и рассматриваемый здесь портрет 1920 года.) Перед нами действительно план, точнее — каркас фигуры, выстроенный из проволокоподобных линий. Присматриваясь, мы замечаем, что каркас крайне шаток, топографический снимок ненадежен, содержит в себе немало искривлений. В «гиперреалистическом» рисунке множество пентименти, следов ошибочных движений карандаша. Неотступно преследуя форму, нащупывая свой путь в глубинах тени, линия плутает, сбивается с направления, попадает в тупики, вычерчивает какие-то малопонятные завитки и зигзаги. Это особенно заметно в мелких деталях, где сильный нажим карандаша не только утяжеляет форму, но и сминает ее. Так, с пальцами в рисунках Пикассо происходит что-то неладное. Они то завязываются узлами, то растопыриваются, как цветочные лепестки, то провисают, как пустые перчатки, а то и вовсе сливаются в неразборчивую массу. В портрете Ренуара скрюченные ревматизмом кисти рук художника теряют узнаваемую форму. Речь идет не о каких-то намеренных деформациях, а о малой разрешающей способности жирной линии, которая «съедает», вбирает в себя необходимые глазу подробности. Изображение распадается просто в силу несоразмерности инструментария изображаемому объекту. Особенно впечатляющи опыты с перерисовками балетных фотоснимков. Такие рисунки, как «Три танцовщицы» (1920, Париж, Музей Пикассо, илл. 9), поражают несоответствием между зримой грузностью фигур и их кажущейся невесомостью.
Тяжеловесные колоссы неуклюже переступают, с трудом шевелят раздутыми конечностями, но при этом они больше похожи на воздушные шарики, чем на каменные изваяния. Как будто художник стремился передать одновременно и балетную легкость, готовность к взлету, и приковывающую к земле силу тяготения. В двух рисунках, выполненных по афише «Русского балета», изобразительное пространство испытывается композиционными средствами. На фотоснимке зафиксирована знаменитая группировка, открывающая и завершающая «Шопениану». На первом рисунке, где сохранен заданный фотографией формат, фигуры балерин разделены интервалами, объемы и фон намечены штриховкой и тронуты акварелью (1919, частное собрание, илл. 13). В другом (1919, Париж, Музей Пикассо, илл. 12) горизонтальный формат сменился вертикальным, и в сузившееся пространство втиснуты те же самые, но лишенные светотеневой моделировки фигуры. Сильфиды вытянулись, оказались в одной плоскости, но та, что полулежит на переднем плане (Ольга Хохлова), вдруг развернулась в глубину. Происходит это как бы автоматически, помимо воли рисовальщика, в силу лишь принятого им правила формальных преобразований. Узкий формат вынуждает сократить простершуюся фигуру, что сейчас же дает эффект ракурсного сокращения: балерина развернулась на колене, обратившись к нам уже не лицом, а всем корпусом, и ее вытянутая вперед рука, оказавшись вблизи предполагаемого объектива, разбухла до огромных размеров. Остальные танцовщицы теперь выстраиваются позади нее, образуя ступенчатую композицию, уходящую либо вдаль, либо вверх, в зависимости от ее объемного или плоскостного считывания. В паре рисунков с одним сюжетом пространство то расширяется, то схлопывается, как надувная емкость при накачке воздухом, и под воздействием этих пневматических толчков фигура лежащей балерины вращается, как флюгер. Тем же приемом сжатия горизонтального фотоснимка в вертикаль выполнена и зарисовка группы из трех танцовщиц, где контурные линии тесно расположенных фигур образуют орнаментальную вязь (1919, Париж, Музей Пикассо, илл. 10, 11). Растяжения пространства в глубину также, скорее всего, подсказаны манипуляциями с фототехникой. Известно, что Пикассо снимал короткофокусным объективом, который дает сильное увеличение деталей переднего плана17. Можно отметить и другие особенности работы с фототехникой, настраивающие глаз на восприятие пространства как текучей, непостоянной в своих параметрах среды: панорамирование видоискателя, когда в его рамке оказываются то удаленные, то вплотную приближенные объекты; размывы выпадающих из фокуса планов; кадрирование негатива и отпечатка, произвольный выбор формата снимка и запечатленных на нем деталей. Картина «Три купальщицы на пляже» (1920, Нью-Йорк, собрание Стивен Хан; прежнее название — «У моря», илл. 14) — яркий пример гиперболизации перспективных искажений, присущих короткофокусному объективу. Сильно увеличенная нога стоящей фигуры и форсированное сокращение убегающей создают ощущение стремительного растяжения пространства в глубину. Нога бегущей еще у края пляжа, а ее голова и руки уходят за километры в морскую даль. Очертаниями она напоминает бумажный самолетик, планирующий по курсу воздушных потоков18.
Самые знаменитые из «пневматических» фигур — в гуаши «Женщины, бегущие по пляжу» (1922, Париж, Музей Пикассо, илл. VII), послужившей эскизом к сценическому занавесу балета «Голубой экспресс». Две гигантши мчатся по пустому пляжу с тяжким топотом, но в их скрестившихся фигурах зафиксирован и другой момент — внезапной остановки бега. Одна из женщин резко затормозила, выставив ногу вперед, а другая взлетела с разгону и, уцепившись за руку подруги, увлекает ее за собой. Теперь тяжеловесы, перепутав конечности, устремляются в противоположных направлениях, перетягивая друг друга. Кроме того, они то взлетают, как мячики, то грузно падают. Элементы этой сложной динамической схемы, похоже, были вынесены Пикассо из балетных зарисовок — поддержек в дуэтном танце, многофигурных группировок со сцепленными руками. Пикассо явно занимал эффект зрительного поворота фигуры, ибо с ним мы встречаемся не только в портрете Ольги 1918 года, но и в портрете сына, также выполненном по фотографии («Паоло на ослике», 1923, Париж, собственность Бернара Руис-Пикассо, илл. IV). На снимке ослик с мальчонкой на спине стоит под некоторым углом к плоскости изображения, вдоль уходящей в глубину решетчатой изгороди (илл. 2). Позади — какое-то поле с неясными фигурами вдали. Убрав мельтешащие фоновые детали и изгородь, подчеркивающую перспективу, Пикассо перестроил пространство по трем параллельным планам — коричневая песочная дорожка под ногами ослика, зеленая лужайка за ним и голубое небо. В портрете, написанном ко дню рождения двухлетнего сына, он «расчистил» фотографию и переложил ее на понятный ребенку язык, близкий к приемам детского рисунка. Пространственная глубина здесь не отрицается, но маскируется разноцветными поверхностями, которые развертываются по вертикали в трехполосный фон. И ослик «залипает» на этой плоскости, поворачиваясь к нам точно в профиль. Малое перспективное сокращение фигуры животного позволило незаметно переставить его задние ноги. В результате Поль, оставшийся в прежней позиции, повернулся на седле. Это ерзанье едва заметно, но мы знаем, что Пикассо увлекали как раз эффекты слабых сдвигов, малых отклонений от вертикальной оси.
Во всех трех случаях — Ольга в кресле, балерина «Шопенианы», Паоло на ослике — при переходе от фотографии к рукотворному изображению фигура описывает небольшую дугу, будто за ее спиной скрыт поворотный рычаг. Конечно, эти перескакивания из одной позиции в другую нельзя заметить, ни даже заподозрить, не зная фотографического источника. Но при сличении «скопированных» образов с оригиналом они оказываются мобилями, приводимыми в движение преобразованиями формы. Здесь мы входим в творческую лабораторию художника, где полным ходом идет экспериментирование, накапливаются результаты повторных опытов, делаются заметки «для себя». Однако содержимое этой копилки обладает объективной ценностью, поскольку касается не личных пристрастий Пикассо, а закономерностей становления зрительного образа. Психологи, изучающие механизмы видения и способы его отображения на плоскости, могли бы многое почерпнуть из его штудий. В одном из стихотворений 1935 года Пикассо писал, обращаясь к своему долгому опыту работы с фотографией: «Фотопластинка вертится вокруг своей оси, опережая в скорости пляшущие вокруг нее образы... падающий на нее световой луч, раскачиваясь, переносит всю конструкцию базисных цветов на прозрачный занавес не проявленных ощущений»19. В фотографии, механическом трансляторе реальности, регистраторе ее поверхности, испытующий взгляд художника вскрывал подспудные слои загадочных явлений, потаенные коды, которыми записывается проективный образ физического мира.
По-видимому, он мыслил картину и предваряющий ее фотоснимок как двухфазовую систему, в которой существен сам переход от одного состояния к другому. При этом обычный эскиз мог выполнять ту же роль «исходной позиции». Сравним портрет Ольги 1920 года («Читающая женщина», Париж, Национальный музей современного искусства, илл. 16) с карандашным эскизом к нему (Париж, Музей Пикассо, илл. 15). Картина точно повторяет намеченные в рисунке формы, однако ее формат сильно вытягивается по вертикали, и вместе с этим меняется характер изображения. Сузившаяся рамка словно надавливает на фигуру с двух сторон, выжимая отсутствующий в контурном рисунке объем. Этот переход от невесомости к массивности подчеркивается появившимся под ногами модели ковриком: он упруго прогибается, его углы топорщатся и закручиваются, словно сопротивляясь давлению ног. Скорее всего, здесь, как и в портрете Ольги 1918 года, Пикассо повернул в глубину плоскость эскиза, вследствие чего изображение вытянулось и, уже по умозрительной логике, обрело выпуклость. Но это преобразование, как будто чисто формальное, повлекло за собой и некоторые изменения в сюжете. На эскизе Ольга рассеянно смотрит мимо записной книжки, которую держит в руке. В картине под влиянием сил сжатия руки сдвинулись и скрестились, теперь ее взгляд устремлен точно на страницу блокнота. Система из двух картинок работает как игрушка с фигурками, закрепленными на параллельных подвижных планках. Не менее занимательны две перерисовки ренуаровского портрета Сислея и его жены, выполненные в 1919 году (Париж, Музей Пикассо; Женева, собрание Берггруэн; илл. 17, 18). Как показал Фицджеральд, в своем «классицизме» Пикассо часто исходил из живописи Ренуара, широко представленной в галерее Поля Розенберга20. При прорисовке контуров импрессионистической картины (не исключено, что Пикассо просто калькировал репродукцию) все световоздушные и цветодинамические эффекты пропадают, вибрирующая «живопись впечатлений» излагается альтернативным языком линейного рисунка. При этом выясняется, что формальный строй этого языка решительно не способен выполнить даже элементарных функций транслятора сюжета. Фигуры, схваченные твердым контуром, не только коченеют в каких-то нелепых позах, но и меняется их облик. С исчезновением столь драгоценной для импрессионистов атмосферной среды, окутывающих фигуры ореолов искажаются и их пропорции. Линии, стянутые в одну плоскость, не передают наклона женской фигуры вперед, связанных с ним ракурсных сокращений, и изящная дама превращается в вульгарную толстуху с огромной головой. Исчезнувший рукав Сислея задает зрителю любопытную задачку: что теперь делают расположившиеся рядком десять пальцев? Не иначе как перебирают отверстия зажатой в ладонях флейты. (В картине Ренуара, разумеется, хорошо видно, что жена опирается на любезно подставленную руку супруга.) Галантно присевший перед женой художник теперь как будто собирается пуститься в пляс под ее дудку. Изменившееся средство не только не пропускает нужной информации, но и, словно издеваясь над прилежным копиистом, подсовывает ему совсем другой сюжет. Язык не прозрачен, как сказал бы представитель школы лингвистической философии.
Все это по крайней мере объясняет, зачем понадобилось художнику, к четырнадцати годам в совершенстве овладевшему навыками реалистического рисунка, заниматься примитивным копированием фотографий и репродукций. «Мастерская художника, — скажет Пикассо в беседе с Андре Варно, — должна быть лабораторией. Здесь не занимаются обезьяньим делом. Здесь изобретают. Живопись — это игра ума 9trompe-l'esprit)»21*. В период 1919—1921 годов Пикассо делает множество интерьерных зарисовок. Тонкие четкие линии передают обстановку жилых комнат в Монруже, в Фонтенбло, квартиры Пикассо на улице Ля-Боэси и находившейся этажом выше мастерской (илл. 19, 20). Обводки контуров близких и удаленных предметов воскрешают в памяти разъяснения Альберти и Леонардо о сути перспективной проекции: если очертить границы предметов на прозрачной плоскости, получится перспективный рисунок. Пикассо как будто педантично следует этой рекомендации, выявляя все детали, вплоть до рисунка пола и лежащего на нем ковра. Однако линии, следуя за движением взгляда, упорно не подчиняются правилам геометрии. Они кривятся и съезжают, горизонтальные плоскости встают дыбом, стыки поверхностей расходятся. Идеальное построение перспективной коробки сотрясается под воздействием живого видения. Это непокорство зрения, сталкивающего с места недвижные предметы, с юмором обыгрывается в известном рисунке, где представлены за светской беседой Ольга, Жан Кокто, Эрик Сати и Клайв Белл (1919, Париж, Музей Пикассо, илл. 21). Чинно рассевшиеся в салоне хозяйка и ее гости располагаются как будто на ступенчатом возвышении, как на сцене. Обычно этот рисунок трактуется именно так. Но, разумеется, никакого подъема пола в гостиной пикассовской квартиры не было, это лишь шалости перспективного рисунка. Переднеплановая «елочка» паркета, расположенная под острым углом к нижнему краю композиции, запутывается в сложностях перспективы. Выворачиваясь в вертикальную плоскость, она ловко подкидывает собеседников, не подозревающих о коварстве нарисованного пола. Скривившиеся половицы лишь притворяются, что возносят почетных гостей на пьедестал, а на самом деле того и гляди стряхнут их вниз. Ноги Кокто и Белла болтаются, потеряв под собой опору, а ножка стула, на который беспечно уселся поэт, уже соскользнула с уступа.
Современники поговаривали, со слов самого Пикассо, что он якобы ненавидел зеркала, испытывал к ним суеверный страх. Однако и картины, и собственноручно выполненные фотографии свидетельствуют о его большом интересе к отражениям, в частности отражениям в зеркалах. Летом 1921 года им был сделан интереснейший снимок: зеркальные створки шкафа, в них отражается противоположная стена комнаты, оклеенная обоями с пейзажным рисунком, туалетный столик с другим зеркалом и сам Пикассо, сидящий в кресле22. Тогда же возник коллажный портрет Ольги, озадачивающий современных исследователей необычными приемами (Париж, Музей Пикассо, илл. V). Он исполнен на двух бумажных листах, наклеенных на холст. На верхнем, вертикальном листке голова Ольги, обрамленная рюшами воротника, выполнена пастелью. В моделировке объемов лица достигнут почти стереоскопический эффект. На горизонтальной наклейке углем набросана нижняя часть полуфигуры со скрещенными на груди руками. Очевидно, Пикассо воспроизвел здесь то же перевернутое пространство, что и в вышеупомянутой фотографии: два встречных плана парадоксальным образом сходятся в одной плоскости. Странно застывшее, плывущее в голубом мареве лицо модели — отражение в зеркале, а нижняя часть рисунка — ее корпус, увиденный с противоположной точки. Непрокрашенные углы верхнего листка воссоздают стертую по краям амальгаму зеркала. В коллаже склеились на одной поверхности две противоположные, во всех отношениях, позиции видения — безжизненное в своей сверхточности зеркальное отражение и живое движение сцепленных рук, схваченное в быстром наброске23.
Пикассовские эксперименты с изображением столь же захватывающи, как и опыты Дюрера с пропорциями. В его руках, вместо циркуля и линейки, современный инструмент оптических измерений — фотокамера. Хорошо изучив парадоксальные свойства зрительных феноменов и хитрости их воспроизведения на плоскости, Пикассо приступает к переработке классических мотивов. Кульминация его неоклассицизма приходится на период 1921—1923 годов. С замечательной легкостью, непринужденностью облекает Пикассо свои модели в покровы античности и Возрождения. Разновременные слои — Древняя Греция, Ренессанс, современность — здесь взаимопроницаемы, и стили совмещены так, что не видно ни спаек, ни зазоров. Мадонна с младенцем — она же Афродита с Эротом, она же Ольга Пикассо с Полем — пребывает одновременно в трех эпохах с полной естественностью. В двух картинах под названием «Мать и дитя» (1921, частные собрания, илл. 22, 23) замечательны позы младенцев. Они словно подсмотрены в искусстве Возрождения, возможно у Рафаэля или у Боттичелли. Но, повторяя иконографический прототип, Пикассо наделяет его неожиданной, почти агрессивной витальностью. Стоящий младенец, восходящий к типу византийского «Умиления», преображен в настырного егозу. Раскинув ноги, он тянется к лицу матери с такой упрямой требовательностью, что та откидывает голову и, словно сопротивляясь его натиску, сжимает пальцы в кулак. В другом варианте пухлое тело ребенка барахтается и изворачивается в женских руках с проворством зверька, умудряясь сделать несколько движений сразу — согнуться и разогнуться, уцепиться за палец матери и схватить себя за одну ногу, вывернув другую. В полотне «Женщина с ребенком на пляже» (1921, Чикаго, Художественный институт, илл. VI) статуарная поза полулежащей женщины еще больше подчеркивает неугомонность ее чада. Упершись затылком в грудь матери, малыш выгибается, вывинчивается из ее объятий и, сползая с колена, подхватывает свою ступню одной рукой и машет другой. Пикассо заглядывает под оболочку стиля, прозревая за условностями иконографического канона биение жизни. Но тем самым, доведя до апогея натуроподобие классической системы, он смыкает историю с современностью, с непосредственным наблюдением близлежащих явлений. В беседе с Канвайлером, говоря о трудности придумывания новых сюжетов, Пикассо заметил: «Если присмотреться, существует совсем немного сюжетов, и они повторяются. Венера и Купидон превращаются в Марию с младенцем, затем просто в мать с ребенком, но всякий раз это один и тот же сюжет»24. Хорошо известное историкам искусства явление контаминации мотивов, их прорастания на почве разных культур было пропущено Пикассо через собственный опыт. Работая над «вечной темой», он приглядывался и к вертким ухваткам своего маленького сына, и к бережным касаниям к его тельцу рук жены. В одной из упомянутых картин мать подставляет под откинутую ногу ребенка широко раскрытую ладонь, а ручонку, крепко сжимающую ее палец, подносит к губам. Возникает круговерть замкнутых в кольцо соприкосновений, цепляний, толчков и притяжений. В чикагской картине хорошо знакомый по античной пластике контрапост фигуры, сидящей со скрещенными ногами, «приспосабливается» к живой реальности: в образовавшейся впадине устраивается, как в люльке, брыкающийся малыш. В панорамных мюралях Пюви де Шаванна классика виделась издалека, с дистанции, отмеренной историческим сознанием. По существу, эта отстраненность означала выход из русла классической традиции, обрыв цепочки непосредственной преемственности. Мечтательно отрешенные нимфы Пюви извлечены из кладовой культурной памяти и противостоят современности как греза о навсегда ушедшем золотом веке. Иначе у Пикассо. Его античные сюжеты проистекают не из хранилищ «воображаемого музея», не из ностальгических путешествий в прошлое, а из наблюдений на пляжах Лазурного берега и Нормандии, где в это время он проводил летние месяцы. В пляжных зарисовках, в офортах и литографиях хорошо виден процесс превращения современных купальщиц в Афродит. Они нежатся на песке, сидят в тенечке, выжимают мокрые волосы и вытираются после купания, сладко потягиваются навстречу солнцу и словно поддразнивают нас неуловимым сходством с древними статуями. В их мягких, чуть оплывших телах мелькают знакомые черты — то в повороте головы, склонившейся к плечу, то в положении руки, прикрывающей грудь, то в скрещенных, как у Фидиевых Мойр, ногах, то в прямой, без всяких прогибов, линии спины — почти точной реплике спины Венеры Милосской. Не раз художник с юмором обыгрывает это заманчивое полусходство. В литографии «Всадник» (1921, илл. 24) покой величавых богинь потревожен невесть откуда взявшимся (не иначе как из морских пучин) молодцом, несущимся на лошади во весь опор. Застигнутые врасплох нагие грации повскакали со своих мест и, разинув рты, уставились на гарцующего героя с притворным испугом и искренней заинтересованностью. В рисунке «Женщины у моря» (1921, частное собрание, илл. 25) невинная пляжная сценка наполняется отголосками трагедии. Жест женщины, отряхивающей длинные волосы, неотличим от жеста театральной героини, патетически заламывающей руки в кульминационной сцене. Лежащая у ее ног купальщица вскидывается то ли в страхе, то ли в негодовании, а навстречу этой группе выходит из вод плечистая богиня с увесистой палкой в руке. Смешные «накладки» возникают как будто сами собой, как сопутствующее явление временной стереоскопии. В наслоениях разновременных пластов высвечиваются неожиданные совпадения различий и расхождения подобий — мифа и реальности, истории и современности. В 1921 году было создано полотно, которое следует отнести к вершинам пикассовского классицизма — «Три женщины у источника» (Нью-Йорк, Музей современного искусства, илл. X). Мотив, широко распространенный в мировом искусстве, к тому времени давно стал общим местом, расхожим штампом массовой культуры. У Пикассо была коллекция фотооткрыток разных стран с изображением девушек с кувшинами, некоторые из них перерисованы его рукой25. В сюжете, кочующем по векам и странам, сама собой обозначилась временная перспектива, так занимавшая Пикассо в его пляжных зарисовках. Он разрабатывал этот мотив во множестве этюдов, варьировал его в разных живописных и графических техниках. Среди композиционных эскизов выделяется один, выполненный, в подражание старинным техникам, карандашом на грунтованной доске (Париж, Музей Пикассо, илл. 27). Линии, проложенные по твердой основе, обладают особой четкостью, так что эскиз производит впечатление не поискового наброска, а уже найденного, окончательного решения. Фигуры очерчены контурной линией и местами тронуты легкой штриховкой. Вся сцена развертывается по горизонтали наподобие рельефного фриза. Одна из женщин подставляет ладонь под бьющую из скалы прохладную струю. Другая, сидящая справа, готовится наполнить кувшин. Третья, уже набрав воды и охватив отяжелевшую амфору обеими руками, видимо, собирается уходить. В картине горизонтальная композиция рисунка сжимается уже знакомым нам приемом в вертикаль. При этом фигуры взбухают, обретая объем, а плоскость фона отодвигается в глубину. Вытянутый барельеф перерастает в компактную статуарную группу. Если в «Возвращении с крестин» изобразительная поверхность мыслилась как волнующаяся ткань, то здесь она наделяется свойствами упругого тела, которое вздувается при надавливании и обращается в плоскость при растяжении. Разумеется, переход от «неподражательного» рисунка к подражательной живописи осуществляется классическими средствами кьяроскуро. Выдавленная из прозрачного рисунка густая светотеневая масса лепит тяжкие скульптурные объемы. Но вместе с тенью в композицию прокрадываются и вполне вещественные новинки. В куске скалы вдруг обозначилась мордочка какого-то зверька, а струя родника, сливаясь с линиями подставленной под нее ладони, становится невидимой. Центральная фигура уже не ловит прохладную влагу, а кормит с руки выползшее из щели животное. В месте предполагаемого падения воды по-прежнему стоит кувшин, но теперь он, уйдя в глубину, как будто оторвался от руки хозяйки. В отдельном рисунке Пикассо тщательно прорабатывает положение кисти руки с кувшином: в его дужку пропущен только указательный палец, а остальные прикрывают ее (илл. 28). В результате этой хитрости возникает впечатление, что женщина справа, отставив сосуд, тянется освободившейся рукой к своей впавшей в мечтательное забытье подруге, обращаясь к ней с какой-то просьбой или вопросом. С этой, левой фигурой произошли самые сильные перемены. Теперь она не обнимает драгоценную ношу, а стоит с праздно опущенными руками, опираясь ногой о камень. Ее выдвинутое вперед колено ярко освещено, выбелено светом, как у Караваджо или Тинторетто. Но овальный световой сгусток, форсируя выпуклость формы, неожиданно материализуется в самостоятельный предмет — белый бидончик, которым небрежно покачивает античная домохозяйка. Чудесное явление эмалированного бидончика из светового пятна тем более поразительно, что дама в живописной версии уподоблена величавой коре, только что извлеченной археологами из раскопок. Складки ее рубашки ниспадают вертикальными каннелюрами, в которых видна даже облупившаяся раскраска. В другой руке мраморная дева держит кувшинчик, по всей видимости прихваченный ею из культурного слоя афинского Акрополя. Сосуд висит на пальце, и из его разбитого горлышка льется вода. Правда, водяной поток также скорее домысливается, чем видится, — он неотличим от потока драпировок и затененных пальцев отставленной ноги. Более того, мы вольны увидеть в этой мерцающей форме вовсе не кувшинчик, а глиняную модель ротонды с колоннами, подозрительно похожую на погребальную урну. Таким образом, источник в картине превратился в некую фикцию. Его вода буквально утекает сквозь пальцы, уходит в землю, исчезает на наших глазах. Исчезновение центрального мотива, естественно, меняет смысл всей мизансцены. Чем теперь заняты эллинки, пришедшие по воду и оказавшиеся у иссякшего родника? Не иначе как обсуждают плачевную ситуацию и корят замечтавшуюся распустеху, болтающую кувшинчиком и расплескивающую остатки драгоценной влаги. Движения их опустевших рук становятся именно жестами, обозначениями беседы. При разглядывании композиции под некоторым углом сбоку фигуры выступают горельефом, а руки выдвигаются вперед, выходя из плоскости изображения. Одновременно усиливается ощущение глубины, сгустившаяся тень скалы превращается в какую-то впадину, поглощающую форму центральной амфоры. Риторическая жестикуляция протекает на фоне этого провала. Конечно, Пикассо припоминал здесь собственные опыты внедрения скульптурных форм в живопись. Его коры весьма похожи на приземистые, неповоротливые фигуры, которые он писал в 1906 году под впечатлением от найденных археологами образцов иберийской пластики. Но в «Источнике» светотень обнаруживает свою парадоксальную природу. Она не только выявляет форму, но и обладает самостоятельной образопорождающей силой. Великий натуралист Караваджо открыл кьяроскуро как средство чеканки объемов, шлифовки поверхностей, но одновременно раскрылась мощная экспрессивная потенция светотеневых контрастов. В классической живописи падающие тени ложатся под фигурами и предметами, заполняют пространство и моделируют его — затекают в углубления, затаиваются в дальних углах, скрывают фон, создавая ощущение бесконечности. Пикассо делает свой ход в этой игре. Как будто не нарушая правил, он лишь дает еще большую волю светотени, и в его картине она начинает резвиться, лукавить, заманивать зрителя бродячими призраками, обнаруживая тем самым свою невещественную природу. Если колено ярко освещено, в полном соответствии с открытым Караваджо приемом, то почему бы этой яйцевидной форме не разродиться другим предметом, например, бидончиком? Если вырезать из каннелированной колонны небольшой кусочек и изолировать его, исключив таким образом фактор масштабных соотношений, то в светотеневом изображении он станет неотличим от целой колоннады. Если глиняный кувшин поставить на фоне песчаной скалы, то проскользнувшая сюда тень проглотит вещь. Если задаться целью передать прозрачность чистейшей ключевой воды, то, по правде говоря, она должна просто сгинуть, раствориться в более плотных формах. И чем, скажите, кончики пальцев, подпирающих щеку девицы, отличаются в изображении от бусинок ожерелья?
Логика иллюзорного мимесиса, прослеженная с неотступным упорством, доходит до критического слома, за которым она встречается с иной логикой — формальных сходств и образов-симбиозов. При этом раскрывается двусмысленность самого понятия «иллюзия». В отдельных местах изобразительное повествование пересекается связками подобий, предметы разных классов комплектуются и упаковываются в оболочку одной формы: колено — бидон, складки — колонны, пальцы — бусы. Но разве не приходилось нам дивиться такой мимикрии вещей в фотографиях, где правильные светотеневые градации то и дело подшучивают над доверчивостью нашего глаза, подсовывая ему один предмет вместо другого? И разве сама природа не пакует в однотипные формы свои творения, сравнивая улитку и галактику, цветок и актинию, излучины реки и изгибы ползущей змеи? В картине Пикассо метафорические спайки, как будто перпендикулярные к линии фигуративного описания, выводятся из его же закономерностей. Кьяроскуро, рисующее объемы, обнаруживает свое подлинное, то есть иллюзорное, естество. Его прозрачная вуаль оказывается способной и размножать предметы, и поглощать их, трансформируя изобразительную тему. Композиция Пикассо — рефлексия о языке классического мимесиса и его восходящих к античности истоках. Вариант французского названия картины «La Source» гораздо точнее передает ее смысл, вызывая представление о скрытых ресурсах, о подземных водах, истекающих на поверхность. Живительный родник, питавший европейское искусство в течение столетий, иссякает, миметическая система расслаивается, сменяясь игрой спонтанных фигураций. Вытянувшаяся в вертикаль композиция уподобляется надгробному памятнику, где центральная фигура с грустью взирает на свою опустевшую ладонь. Все три позы — и сидящей с протянутой вперед рукой, и стоящей, легко облокотившейся о скалу, и задумчиво опустившей голову, подперевшей щеку рукой — нам хорошо известны по аттическим стелам. Нет надобности приводить прототипы. Каждый, знакомый o историей искусств, припомнит их сам. Но Пикассо еще раз меняет настрой нашего восприятия, снабжая свои статуи вставными, вертящимися, как у пупсов, головами. Граница тени у основания их шей выделена щелевидной чертой, как будто головы ввинчены в пустотелые отливки. Прощание с классикой преисполнено юмора и печали. Тайны высокоразвитого мимесиса давно раскрыты, стали скучными школьными правилами, и можно позабавиться над условностями жизнеподобного изображения, перехитрить хитроумие его языка. Но то была великая традиция, безусловно достойная мраморного монумента. Многозначность «Источника» можно было бы объяснить ссылкой на сущностные свойства зрительного образа, лучеобразный характер изобразительной метафоры, стягивающей к себе множество смыслов. Но в данном случае этого явно недостаточно. Пикассо наслаивает друг на друга прозрачные, взаимопроницаемые стилевые оболочки, сопряженные с разными историко-культурными пластами. Возникающие при этом и сильные сдвиги, и легкие, едва заметные отклонения от реальной формы создают своеобразную стереоскопию отсылок к разным эпохам, к разным ракурсам видения, что, в свою очередь, требует от зрителя смены позиций восприятия. Содержание картины раскрывается медленно, по этапам, как литературное повествование.
В любом случае оно останется непостижимым без знакомства с предварительным рисунком. Ведь только при сопоставлении законченной композиции с рисунком мы становимся очевидцами смыслообразующего события — исчезновения родника. Эта якобы рабочая заготовка, выполненная на грунтованной доске, подобно прориси по левкасу, имеет мало общего с тем, что обычно называется эскизом, или этюдом, где художник фиксирует расположение фигур и композиционных масс, чтобы затем перенести их на холст. «Эскиз» в данном случае является чем-то вроде пролога к картине, эпизодом, предваряющим основное действие. Пикассо неоднократно говорил, что в живописи должна быть драма, имея в виду некую конфликтность художественной формы. Рисунок и картину «Источника» нужно рассматривать в единой последовательности, как два акта драмы — исходную мизансцену и ее преобразование. Только при созерцании самого перехода из начальной ситуации в завершающую можно уяснить содержание этой изобразительной драматургии. В парижском Музее Пикассо есть еще два полотна на темы «Источника», которые, по-видимому, предшествовали окончательной версии. Выполненные в техниках рисунка, они являются чем-то вроде монументальных набросков. На одном, горизонтального формата, полулежащая женская фигура прорисована линиями жирного карандаша. В ее руках амфора, из которой вода изливается в песок. В некоторых рисунках Пикассо иронически заостряет мотив, дополняя его фигурой собаки, слизывающей струю (илл. 30). В другом полотне, вертикальном, дана та же композиция из трех фигур, что и в законченной версии «Источника» (илл. 29). Оно выполнено в технике сангины, которая в классическом искусстве использовалась как великолепное средство моделировки объемов. Однако здесь глубокие тени скорее сминают форму, чем проявляют ее. Они ложатся невпопад, шевелятся и бурлят в случайных вздутиях. Законченную композицию можно рассматривать как синтез двух версий — мотива воды, уходящей в песок, и испытания свойств играющего кьяроскуро. В том же 1921 году были написаны две загадочные картины — «Деревенский танец» и «Чтение письма» (обе — Париж, Музей Пикассо, илл. IX, 31). По своей стилистике они реалистичны, приближаются к «новой вещественности», но представленные в них незамысловатые сюжеты явно требуют реинтерпретации. Первая из упомянутых картин выполнена в удивительной технике пастели по холсту; яркие светотеневые контрасты проявляют необычные перекрутки форм. Во второй непропорционально крупные руки, утрированная лепка объемов и их разрывы, драпировки, почему-то появившиеся на месте брюк, вселяют подозрение, что здесь скрываются совсем другие образы. Похоже, что у зачитавшихся юношей на двоих три ноги, причем третья явно чужая: она в другом ботинке и высовывается откуда-то сзади, из глубокой тени. И как только мы замечаем эту «подножку», драпировки приходят в движение, окончательно спутывая положение нижних конечностей обнявшихся приятелей. Этот эффект возникает лишь при рассматривании оригинала, в котором тени фактически не обозначены: в нижней части правой фигуры по совершенно однородной темной поверхности проложены светлые изгибающиеся мазки. Эти плывущие по поверхности блики размывают объемы, зрительно смещают их направление. В обеих картинах массы так плотно упакованы, что не удается развязать этот тугой узел, но формальные признаки подсказывают, что «новая вещественность» должна здесь перейти в «новый классицизм». Молодые люди в современных костюмах имеют те же лица, что и «античные» юноши «Флейты Пана» — округлые, скульптурно вылепленные, с прямыми носами и тяжелыми веками, с изогнутой линией губ. Возникновение таких близнецов отчасти объяснимо схождением разных способов порождения формы — намеренного подражания античной пластике и опыта прорисовки фотографий. Графические портреты Пикассо не раз сравнивали с его же скульптурой из бумаги и коллажными вырезками. Карандаш прорезает белизну бумаги, шлифует штриховыми насечками объемы, подобно резцу, чеканящему мрамор. Древний скульптор, преодолевающий сопротивление камня, и современный художник, погружающий острие карандаша в сумрак затенений, пробивающий в нем линейную границу, приходят к сходным результатам обобщенных, лаконичных форм. Появившаяся через два года «Флейта Пана» (1923, Париж, Музей Пикассо, илл. VIII) — одна из любимейших картин Пикассо. Она была широко известна, показывалась на многих выставках, но художник упорно отвергал все предложения о покупке и хранил ее у себя до конца жизни. Фигуры двух юношей в набедренных повязках — стоящего и присевшего с поднесенной к губам сирингой — представлены на фоне плоскостных выгородок, за которыми открываются синие дали морского пейзажа. Поза музыканта крайне неустойчива. Он словно отталкивается от земли левой ногой, готовясь то ли повернуться на сиденье, то ли подняться. Под ним куб, изображенный в шатающейся перспективе, — какой-то ящик или даже картонная коробка, на которую опасно усесться и лучше подстраховаться, упершись ногой в землю. В следующий момент флейтист либо поднимется, либо соскользнет со своего хлипкого сиденья и, упав на колено, примет позу бега, характерную для архаической пластики Греции. Стоящая фигура, столь напоминающая статуи ранней классики, не менее противоречива. Ее массивность нарастает книзу (тяжелые кисти рук, мощные ноги), но при этом объемность убывает в том же направлении: маленькая голова хорошо вылеплена, а формы рук и ног постепенно смазываются, слипаясь с фоном.
Прослеживая соотношение линий пола, кубов и ширм, можно прийти к выводу, что вообще весь фон, включая морской пейзаж, — лишь плоский декорационный задник, в котором спутана последовательность планов. Перспективная коробка будто разобрана на части и снова смонтирована в произвольном порядке. Однако сломанная перспектива упрямо восстанавливается. Пространство схлопывается и снова вытягивается в глубину. Тонкие панели со скошенными краями словно раскачиваются на ветру. Если в кубизме Пикассо разлагал объемы на грани и перемешивал их, то здесь он осуществляет ту же операцию с пространством. Мы словно проникаем в кубистический объем, рассматриваем его парадоксальное строение изнутри. Оказывается, что пребывание внутри невозможной конструкции одаривает глаз множеством версий раздвижного, трансформирующегося пространства. Эти колебания усиливаются неявной разномасштабностью фигур: сидящий крупнее стоящего, хотя находится на одном уровне с ним. В картину встроена система подвижной оптики, линз, сфокусированных на разные планы. Персонажи, застывшие в раскачивающемся пространстве, вызывают ощущение недоговоренности, пробела в действии. За болтающимися створками словно скрывается неведомое нам событие. Созданию картины предшествовало множество рисунков с фигурой присевшего флейтиста (Zervos V, 107-125, 128-130). Как минимум два из них (частные собрания, илл. 32, 33) рассматриваются исследователями как подготовительные эскизы к живописной композиции. Но в них представлен иной сюжет. Красавица любуется на себя в зеркало, которое любезно держит перед ней молодой человек. За ним, на задрапированном возвышении, полулежит Амур с луком в руках. У этого постамента, на переднем плане сидит флейтист. В рисунке пером, горизонтального формата, вся группа располагается в интерьере, на фоне стены с филенками. В пастели вертикального формата объемы, сомкнутые в плотную группу, моделированы светотенью. Прием сжимания композиции в вертикаль с одновременным выдавливанием объема нам уже знаком. Но куда пропали центральные фигуры Венеры перед зеркалом и Амура, составляющие тематическое ядро «эскизов»? Они как будто провалились в ту пробоину, которая образовалась при разрушении коробки интерьера. Видимо, и здесь мы имеем дело с мысленным экспериментом, но его исходные условия в данном случае определяются жесткой конструкцией, ограничивающей пространство. Боковые фигуры при сжатии формата сдвинулись и оттолкнули центральные назад. Стена комнаты при этой операции сломалась, и мифопоэтические персонажи вылетели, так сказать, в голубую даль, оставив по себе воспоминание в виде хлопающих на сквозняке створок, галантного кавалера, утерявшего и зеркало, и объект своего обожания, и флейтиста, продолжающего насвистывать ненужную теперь серенаду. «Флейте Пана» посвящена интересная статья Уильяма Рубина26. Главный хранитель Музея современного искусства в Нью-Йорке подходит к картине с иной стороны, связывая ее сюжет с несостоявшимся романом Пикассо и Сары Мерфи, знаменитой красавицы, жены американского художника Джеральда Мерфи. В античных сюжетах 1923 года ее облик вытесняет облик Ольги. Видимо, именно она послужила моделью для знаменитой «Женщины в белом» (1923, Нью-Йорк, Музей Метрополитен) и, судя по многим признакам, ее ликующая красота вдохновила художника на создание рисунков с сюжетом Венеры перед зеркалом. Выполненная по просьбе Рубина съемка картины в инфракрасных лучах как будто показывает, что в верхней ее части находились позднее записанные фигуры женщины и ребенка. Исследователь трактует «Флейту Пана» как «прерванную любовную песнь».
Приводимая в статье тусклая фотография не вполне убеждает в том, что исчезновение фигур произошло прямо на холсте, но это и не столь существенно. Можно пребывать в неведении относительно изложенных Рубином фактов, из картины неустранимо это ощущение распада связей и сопутствующего ему настроения — сожаления или ожидания, разочарования или предчувствия. Сократившееся, деформированное пространство вытолкнуло за свои пределы центральные фигуры, создав интригующий разрыв. Пытаясь заполнить изобразительный пробел, мы обращаемся с вопросом к купальщикам в набедренных повязках, которые словно балансируют на грани времен, с трудом удерживая равновесие. Незнание биографического контекста приведет нас к менее определенной, но расширенной интерпретации, где мелодия «прерванной любовной песни» перерастает в тему прощания с идиллическим миром классики. Из вышеизложенного, по-видимому, следует, что экспонирование таких картин, как «Флейта Пана» или «Три женщины у источника», должно сопровождаться показом относящихся к ним «эскизов» или их хороших воспроизведений. В силу разных обстоятельств «драмы» Пикассо были разорваны на куски, разлетевшиеся по городам и весям. Впоследствии он исключил возможность таких разрывов, поставив непременным условием экспонирования «Герники» демонстрацию всех относящихся к ней рисунков и потребовав сохранить в целостности цикл «Менин». По отношению к работам 1920-х годов, в том числе выполненным по фотографиям, замысел художника также должен быть восстановлен, хотя бы средствами репродуцирования. Классицизм Пикассо обычно рассматривается как одно из проявлений общего ретроспективного потока 1920-х годов. Однако его критические исследования реалистического языка, перерастающие в глубокие размышления об отношении современности к классической традиции, плохо согласуются с бытовавшим тогда призывом «возврата к порядку». В этом убеждает простое сравнение его концептуальных картин с относящимися к тому же времени незамысловатыми стилизациями верных адептов неоклассического направления27. Костюмированные фигуры в искусстве Пикассо рассматриваемого периода — настоящий театр стилей, где сам мотив актерского переодевания выступает как метафора стилевых перевоплощений. В «классицистской» версии персонажи комедии дель арте представлены вне роли, что нередко подчеркивается мотивом снятой маски. Сравнение живописного полотна «Пьеро с маской» (1918, Нью-Йорк, Музей современного искусства, илл. 35) с соответствующим рисунком (илл. 34) показывает, с какой легкостью осуществляет Пикассо стилевые переходы. Мягкая светотень рисунка проявляет изящную, спиралевидно изогнутую юношескую фигуру. В живописном варианте та же модель, в той же позе перевоплощается одной лишь силой цвета, и рисунок «под маньеризм» преобразуется в сезаннистский портрет. Цветовые контрасты лепят объемные складки, фигура обретает массивность и при этом вдавливается в фон. Красные и зеленые пятна на белой одежде создают эффект театрального освещения через цветные фильтры. В кубистических вариантах каноничные персонажи традиционного театра чаще всего фигурируют на сцене. В серии гуашей 1920 года, вдохновленной балетом «Пульчинелла», вводится мотив театрального занавеса и маски, в которой исполнял свою партию Мясин. Полишинель раздвигает красный занавес, и темные тени его складок трактуются как прорези, заманивающие взгляд в глубину сцены (Франция, частное собрание). Костюм Арлекина, сшитый из ромбовидных лоскутков, подсказывал художнику дальнейшее дробление фигуры на раскачивающиеся плоскости. В таких картинах, как «Арлекин с гитарой («Если ты хочешь»)» (1918, Кливленд, Художественный музей) или «Арлекин, играющий на гитаре» (1918, Базель, частное собрание), мелкие плоскости колышутся и толкают друг друга, приводя фигуру в движение. Кульминация этих опытов — два варианта «Трех музыкантов» (Нью-Йорк, Музей современного искусства; Филадельфия, Музей искусства, илл. XI, XII). Картины, относящиеся к числу шедевров Пикассо, писались в то же время и в том же месте, что и «Три женщины у источника», — в гараже виллы в Фонтенбло, где художник проводил летние месяцы 1921 года. Они выполнены приемом имитации коллажа: разноцветные вырезки складываются в фигуры и предметы. Пространственный слой тонок, и формообразующие плоскости раскачиваются в тесно сближенных параллельных планах. Состав трио несколько странен: Пьеро, Арлекин и монах. Впрочем, присутствие мрачноватой фигуры монаха оправдывается маской на его лице — это тоже актер. В интерпретации Теодора Рефа, признанной ныне канонической, «Три музыканта» трактуются как «памятник ушедшим друзьям и богемной молодости», в котором художник, «используя привычный ему символический язык, представил себя в виде Арлекина, а своих ближайших друзей, Аполлинера и Жакоба, в виде Пьеро и монаха»28. Реф основывается на биографических фактах: в 1918 году умер Аполлинер, в 1921-м удалился от мира, приняв монашество, Макс Жакоб. В статье американского исследователя «Три музыканта» насыщаются мрачными интонациями и обрастают мистической символикой, заимствованной из давней традиции. Однако изыскания в области этимологии мотивов и их связей с биографическими обстоятельствами уводят далеко за пределы изобразительного поля картин. А оно, безусловно, заслуживает более пристального взгляда. Нью-йоркское полотно имеет горизонтальный формат (200,7x222,9), филадельфийское — вертикальный (203x188). Как видим, сжатие на сей раз невелико, хотя и очевидно. Учитывая другие опыты Пикассо с преобразованием форматов, можно прийти к выводу, что картины следует рассматривать в паре. Перед нами не просто две версии, а две части единого произведения — своего рода диптих. Первый акт «драмы» представлен в нью-йоркской (горизонтальной) картине, второй — в филадельфийской. В «Трех музыкантах» испытывается противоположный «Источнику» изобразительный модус. Плоскостные декупажи по определению не могут развернуться в объем, при двустороннем надавливании они лишь смещаются к центру, что и происходит в филадельфийской картине: пустоты по сторонам исчезли, вырезки сгустились, появились дополнительные наслоения. Естественно, что при таком сдвиге произошли фигуративные перестройки29. Первое, что мы замечаем, — Арлекин и Пьеро, перескочив, поменялись местами. И если Пьеро продолжает дуть в свой кларнет, то в руках Арлекина уже не гитара, а скрипка, что не очень удивительно, если учесть сходство корпусов того и другого инструментов. Ноты, лежавшие на коленях монаха, под действием бокового толчка съехали на стол, смахнув находившийся на нем натюрморт. Фигуру Арлекина, в зависимости от того, как глаз комбинирует декупажи, можно увидеть в фас и в профиль, при этом меняется ее выражение. Если в первом случае он, поднеся скрипку к плечу, как будто лишь готовится вступить со своей партией, то во втором, повернувшись спиной к соседу и размахивая смычком, он лихо наяривает на новообретенном инструменте. Пьеро же не зря так крепко ухватился за свою неизбывную дудку: к ней приклеился женский профиль, который он нежно поглаживает, одновременно перебирая пальцами отверстия кларнета. Впрочем, и в первой версии он как будто обнимает усевшуюся на его коленях девицу. Наиболее загадочная фигура, как и положено по законам драматургии, темный монах. С ним происходят самые неожиданные перемены. Остававшийся в «прологе» почти незаметным, скромным перелистывателем нот, теперь он, похоже, ухитряется делать три дела сразу — играть в ансамбле с партнерами, пропускать рюмашку и голубить девицу. Вместо небрежно отодвинутой нотной тетради на его коленях появился ксилофон, а в руке — точно свалившаяся с потолка рюмка. Лицо, прежде скрытое под благочестивой маской с длинной бородой, ныне ухмыляется, плотоядно облизывается и таращится круглыми глазами. В игру с монахом вовлечены еще два не сразу замечаемых персонажа — собака и тень женщины. В нью-йоркской картине натуралистически изображенная собака спряталась под столом, от ее головы падает на стену черная тень. Во второй версии этот пес, развернувшись на 180° и скрывшись за ногами Пьеро, обернулся коллажной вырезкой. Теперь его голова белая. (Не имел ли в виду Пикассо символическую черно-белую собаку доминиканцев?) Высунув голову из-под сумы монаха, пес гавкает на какое-то другое лицо, нежданно явившееся из-за рамы. Его праведный гнев можно понять, ибо он увидел задорный силуэт юной Коломбины, которую святой отец украдкой поглаживает по затылку. Но не напрасно ли мы заподозрили во фривольности святого брата? Ведь его пальцы похожи, скорее, на металлический зажим, которым невидимая рука вдвигает в картину бумажный силуэт. Вернувшись к первой версии, мы обнаружим крадущуюся по стене тень. Стало быть, есть еще одно действующее лицо — женская фигура, находящаяся вне поля зрения, за пределом переднего плана картины, но настойчиво напоминающая о себе синим силуэтом. Перекрыв лицо Арлекина и зацепившись за его кружевной воротник, тень тянется к монаху, игриво закидывая ногу ему на колено и что-то нашептывая на ухо. Во «втором акте» тень расплылась и поблекла, стала серо-голубой. Она мелькает за спинами главных героев, настырно протискивается между ними, передразнивает их движения, высовывает на первый план то руку, то ногу. Прокравшись через все поле картины и, кажется, успев попутно обнять и Арлекина, и Пьеро, она, наконец, изворачивается и входит в мизансцену с правой стороны, прильнув лукавой мордашкой к монаху. Фотографии, сделанные Пикассо в процессе работы, показывают, что первоначально музыкантов было два — Арлекин и Пьеро30. Монах втиснулся позднее, оттолкнув в сторону двух друзей. Быть может, именно это вторжение натолкнуло художника на мысль о перетасовке вырезок. Монах встряхнул композицию, встрял в чужую игру и завладел положением дел. Если на первой стадии он скромно примостился на краю скамейки, то на второй этот темный персонаж уже вовсю ведет свою партию, управляет развитием событий, выводя на сцену другие, скрытые в подтексте фигуры31. «Трех музыкантов» не раз сравнивали с джазовой музыкой, и это наблюдение вполне оправдано. В острых цветовых контрастах, в сдвигах и шатаниях прерывистых форм слышатся диссонансы, синкопические ритмы и свинговые раскачки негритянского джаза, который как раз в это время вошел в моду во Франции. Но такая трактовка удерживает внимание на переднем слое картин, что явно недостаточно. Эффектно проработанная декоративная поверхность — что-то вроде звонкого музыкального вступления или яркого занавеса к спектаклю. Надобно шагнуть за этот занавес, чтобы увидеть сам спектакль. Вслед за движением глаза по картинному полю фигуры также начинают двигаться, перескакивать из одной позиции в другую, незаметно вовлекая нас в представление. Группировки, позы и жесты меняются спонтанно, в зависимости от случайного падения взгляда в ту или иную точку. И в силу этой случайности события на холсте развиваются с непредсказуемостью хорошо закрученной интриги. Они не зависят от наших намеренных усилий «постичь» картину, поскольку цепляются за более глубокие, предсознательные психические процессы. Мы просто созерцаем спектакль, развертывающийся на наших глазах. Бумажные человечки проявляют своеволие независимых, «себе на уме» характеров. Как искусный режиссер, Пикассо подводит нас к такому непредумышленному видению. «Я выигрываю, когда сделанное мною начинает говорить помимо меня. И когда высказываюсь уже не я, а созданные мною рисунки, когда они ускользают и насмехаются надо мной, я знаю, что достиг своей цели»32. Просто удивительно, с каким мастерством гениального кукловода Пикассо оживляет своих рисованных марионеток. При всей нереальности этих рассыпающихся на кусочки фигур их жестикуляция, повадки и ужимки неподражаемы в своей правдивости, как в первоклассной актерской игре. Достаточно взглянуть на П-образный декупаж в нижней части фигуры Пьеро, чтобы увидеть в нем характерную посадку музыканта, выставившего одну ногу вперед и отбивающего такт ступней. И та же форма преобразуется в близко сдвинутые лапы собаки, выгнувшей спину и заходящейся в напряженном лае. В филадельфийской картине у музыкантов появляются усы, которые одновременно считываются как растянутые в улыбке рты, и выражение этих ухмылок меняется от кисло-презрительного до задорно-приветственного. Белый ус монаха высовывается острым дразнящим язычком. В нью-йоркском «прологе» узкие прорези для глаз затемнены, маски спокойны. Но в следующей мизансцене все три актера уставились на нас широко раскрывшимися отверстиями, и выражение их глаз меняется в зависимости от того, какую комбинацию мы видим в данный момент. Так, прищуренные глаза Пьеро то опускаются к нежно прижавшейся подруге, то стреляют в сторону Арлекина, дабы не зазеваться и не сбиться с задаваемого скрипачом темпа. Круглые гляделки монаха то косят в сторону, на пригожую девицу, то вскидываются вверх, благодаря небеса за ниспосланную рюмашку, то с нагловатым вызовом смотрят прямо на нас. Вспомним двунаправленный взгляд через очки-бинокль господина в ложе из рисунка к «Куадро фламенко». Здесь тот же эффект. Глаза скрыты за круглыми прорезями масок, и мы невольно вычитываем в них разные выражения и направления взора. И если в первом случае был выбор всего из двух альтернатив, то здесь фигур больше, связи между ними разнообразны, и выражение лиц под масками меняется многократно. Теодор Реф, поставив вопрос о последовательности создания двух версий, приходит к заключению, что филадельфийская, как якобы менее совершенная, предшествовала нью-йоркской33. Однако известно, что они писались одновременно, о чем свидетельствуют не только приводимое автором статьи письмо Поля Розенберга, но и фотографии, сделанные Пикассо в гараже Фонтенбло. На них видно, что обе картины закреплены на противоположных стенах и филадельфийский вариант вполне закончен. Если рассматривать две версии в единстве, как диптих, вопрос об очередности их создания отпадает сам собой. Из вышеизложенного со всей неотвратимостью следует вывод: наша трактовка «Трех музыкантов» никак не может претендовать на то, что называется научной достоверностью. Поскольку комбинации возникают спонтанно, зависят от фокусировки глаза в данный момент, каждый зритель увидит свой спектакль. Если сюжет имеет вероятностный характер, то описать с достаточной степенью надежности можно только сюжетообразующие структуры. Однако ободрить в этой ситуации могут суждения самого Пикассо. Приведем одно из них: «Картина не обдумывается заранее и не создается по предварительному плану. Она меняется в процессе работы вместе с течением мысли. А будучи законченной, она все равно продолжает меняться, в зависимости от того, кто смотрит на нее. Картина живет своей жизнью, как живое существо, подвергаясь потоку перемен, которые происходят с нами каждый день. Это вполне естественно, ведь картина обретает жизнь только в созерцающем ее человеке»34. Подключив живопись к психическим потокам, Пикассо тонко рассчитал эффекты возможных комбинаций, но исключил однозначные, окончательные трактовки, даже на уровне сюжета. Диптих «Трех музыкантов», создававшийся примерно в то же время, что и «Источник», соотносится с ним по типу параллельных оппозиций: классицизм и кубизм, три женские фигуры и три мужские, безмолвные статуи и шумная кутерьма бумажных человечков, бренчащих на музыкальных инструментах. Стилевые антитезы становятся самостоятельной темой в картине «Этюды» (Париж, Музей Пикассо, илл. XIII), где кубистические натюрморты совмещены с натуралистическими этюдами женской головы, рук и танцующей пары. Последние написаны в утрированной до пародии живописной манере, составляющей контраст острой, колючей графике натюрмортов. Пикассо любил такие совмещения. На выставках, у себя в мастерской он обычно располагал рядом полотна контрастных стилистик. По-видимому, в «Этюдах» представлена стена с висящими на ней картинами. До недавнего времени эта необычная композиция относилась к 1920 году. Нынешняя, более логичная датировка (1921—1922) позволяет рассматривать ее как постскриптум к большим работам 1921 года — «Источник», «Три музыканта» и «Деревенский танец». Фотографии гаража в Фонтенбло показывают, что две его стены заняты «Тремя музыкантами», а третья, торцовая, затянута холстом, к которому прикреплены этюды голов и руки, относящиеся к комплексу «Источника». В 1922 году Пикассо создал множество натюрмортов с игральными картами (Zervos IV, 397-433, 439-441). В «Этюдах» эти натюрморты с картами и рюмками (такими же, как в руке монаха из «Трех музыкантов») выворачиваются в головы клоунов. Одна из них, в зелено-красной тиаре, грозно кричит на другую, в шутовском колпаке, и несчастный паяц в ужасе падает перед тираном навзничь. Есть трудноуловимая связь между вещами-оборотнями и кистями рук, с их полусогнутыми, шевелящимися пальцами. В отличие от натюрмортов, они не окантованы и словно украдкой проползают между кубистическими картинами, теребя скатерть. Быть может, именно эти крадущиеся, обшаривающие поверхность руки и встряхивают карточные домики на столе, совершают шулерские махинации. Случайность, создающая всякий раз новые комбинации, направляет и ход карточной игры, и перетасовки форм в кубистической живописи35. Женский профиль в центре написан маслом с примесью металлического порошка, и это «золото» придает объемному лицу ирреальную прозрачность. Оппонирующие стили у Пикассо то далеко расходятся, то сближаются в диалоге, то частично перекрывают друг друга. Метафора зеркала в его картинах и рисунках 1923 года двусмысленна, провокативна. Маленькое ручное зеркальце повернуто к нам оборотной стороной, утаивая в себе загадку отражения. «Арлекин с зеркалом» (1923, Мадрид, Музей Тиссен-Борнемисса, илл. XIV) представлен в каком-то не сообразном роли костюме — бархатные пурпурные панталоны и камзол, отделанный рюшами. Через обе его руки перекинуты куски белой ткани, которые в равной мере могут быть поняты и как необходимый реквизит роли, и как полотенца или салфетки, которыми актеры пользуются при гримировке или остужают лицо после выступления. Артист, поправляя шляпу, осматривает себя в овальное зеркальце. В какой роли он видит себя? Что показывает правдивейшее из всех изображений? Лицо, обрамленное овалом, как в классическом медальоне? Или, быть может, поворачиваясь в руке, оно выхватывает то ухо или шляпу, то дробные, прыгающие фрагменты интерьера? Малые размеры зеркала допускают и такой, «кубистический» вариант. Ведь при малейшем повороте зеркала удаленные планы смещаются с огромной скоростью, немыслимой в мире механического движения. Зеркало не только копирует, но и дробит реальность, запутывает пространственные отношения. Еще в кубистический период Пикассо записал в своем альбоме: «Живописный образ не может быть явлен в своей чистоте, если его можно представить в ином пейзаже, нежели пейзаж самой живописи»36. Эта мысль получила зримое выражение в серии портретов художника Хасинто Сальвадо в костюме Арлекина (1923). Позы модели несколько различаются, но все портреты выполнены в одном формате, образуя единый ряд. В двух из них, хранящихся в частных собраниях, масляная живопись имитирует текучую акварель, в третьем (Базель, Художественный музей, илл. XVI) тот же эффект достигнут в еще более трудной, малоподвижной технике темперы. Самый знаменитый в этой серии — «Арлекин» из Национального музея современного искусства в Париже (илл. XV). Портрет часто считают незаконченным, поскольку большая часть фигуры и фон не прописаны красками. Однако этот удивительный non finito тщательно проработан тончайшей штриховкой. Сопоставляя парижского Арлекина с тем, что находится в собрании Ставрос Наркос, где модель представлена в том же самом ракурсе, в той же позе, можно заключить, что художника интересовали два контрастных способа изображения — плывущими пятнами акварели и сухими насечками штрихового рисунка. Объект портретирования — не Арлекин и не человек по имени Хасинто Сальвадо, а изобразительные приемы и техники, по отношению к которым масляная живопись выступает как «язык второго порядка». Уже в период синтетического кубизма Пикассо и Брак разделяли рисунок и цвет. Красочные пятна и графические конфигурации представали в их живописи как самостоятельные объекты, отслоившиеся от реальной формы. В начале двадцатых годов Пикассо продолжает этот эксперимент, но уже с натуралистическим изображением. В альбоме эскизов, выполненных летом 1923 года в Антибе (собрание Марины Пикассо), светотеневая штриховка скорее соседствует с фигурами купальщиц, чем моделирует их. В одном рисунке перекрестная штриховка, обозначая тень позади сидящей женщины, превращается в пружинистую опору, поддерживающую откинутую спину (илл. 36). В другом диагональные линии образуют перспективную решетку, которая захватывает фигуры в свой плен (илл. 37). Купальщицы, выйдя из воды, оказываются пойманными в сеть падающей от скалы тени и бьются в ней, как испуганные птицы. Умножая штрихи, художник доводит «клетку» до грани непроницаемости, так что моделирующая тень превращается в свою противоположность, почти полностью перекрывая фигуры.
В «незаконченном» парижском «Арлекине» Пикассо дает некий вертикальный срез пластов, творящих иллюзорное подобие: контурный рисунок — штриховая моделировка — цвет. Они нарастают снизу вверх, совмещаясь в лице Арлекина. Если в промежуточной фазе, на плече, плоскостно наложенный цвет еще расходится со штриховым растром, то в области головы все слои сливаются в тонко проработанные, обогащенные рефлексами объемы. Если принять, что художник ставил перед собой цель наглядной демонстрации процесса формирования натуроподобного образа, то портрет следует признать вполне законченным. Во всей серии костюмированная фигура выполняет функцию пробной конструкции, макета, который прогоняется сквозь растворы разных живописных техник. В осевших на нем кристаллах проявляется чистое вещество самой изобразительной формы. В 1924 году Пикассо оформил балет «Меркурий». Это новое обращение к театру можно объяснить назревшей потребностью подытожить накопленный опыт, вернув «театр стилей» на реальную сцену. «Меркурий» входил в программу коротких балетов «Парижские вечера», показанную в мае — июне 1924 года в театре де ля Сигаль при поддержке графа Этьена де Бомона. Музыка была написана Эриком Сати, а танцевальная пантомима поставлена Леонидом Мясиным. Таким образом, вновь встретились главные участники легендарного «Парада». По свидетельству Мясина, ведущая роль в работе над балетом принадлежала Пикассо37. «Меркурий», названный в программе «пластическими позами», не имел единой фабулы. Создатели намеревались представить разные обличья античного бога, который выступает попеременно как покровитель плодородия, вестник богов и просветитель людей, хитроумный вор, знаток магии, проводник душ умерших в подземное царство. В этом не было ученого намерения показать полисемантизм мифа. Постановщики стремились, скорее, приблизиться к веселой мешанине мюзик-холла, с его короткими разношерстными номерами, с элементами клоунады и юмора абсурда. В партитуре Сати быстро сменялись темы, окрашенные интонациями популярных шлягеров и цирковой музыки. В первой картине богиня Ночи, управляя знаками Зодиака, подготавливала любовное единение Аполлона и Венеры. Объятый ревностью Меркурий убивал Аполлона, а затем оживлял его силой магии. Партии Аполлона, Венеры, Меркурия и знаков Зодиака исполнялись танцовщиками, но фигура расположившейся на ложе Ночи была сконструирована Пикассо (илл. 38). Этот так называемый пратикабль состоял из двух взаимно перпендикулярных планшетов — белого горизонтального и синего вертикального. На белом была схематично прорисована женская фигура с проволочными конечностями и кружочком головы на длинной шее. Установкой управлял скрывавшийся за ней человек. Можно представить себе, как эта повелительница светил то сладко потягивалась, распрямляя ноги и закинув руки за голову, то свертывалась по кошачьи в уютный комочек, подобрав ноги под себя и втянув голову в плечи. Вокруг нее кружились звезды и кипела кутерьма любовных страстей с убийством и воскрешением. Фанерная богиня оставалась величаво-безмятежной.
Во второй картине три Грации предавались блаженству купания в бассейне. Улучив момент, Меркурий ловко крал их жемчужные ожерелья. За ним гнался разгневанный Кербер. В начале этой сцены партии пышногрудых и пышноволосых красавиц исполнялись мужчинами в париках из телефонных проводов и с мячиками женских грудей. Но в финальном эпизоде побега-погони Грации выдвигались на сцену тремя пратикаблями: на плоскости мягких очертаний накладывались «скелеты» примитивной раздвижной конструкции из пересекающихся планок, посредством которой шеи дев то удивленно вытягивались, то испуганно втягивались, а головы укоризненно покачивались (илл. 39). За ними мчался Кербер — плоский диск, на котором с пикассовской виртуозностью была нарисована морда трехглавого пса. Так что по пятам ловкого воришки неслась, как в гангстерском фильме, целая вереница преследователей — три жертвы разбоя и один праведный мститель. Третья картина, в соответствии с балетными канонами финального апофеоза, начиналась с пира у Бахуса. Меркурий открывал бал и затем, в качестве посредника между богами и людьми, одаривал присутствующих алфавитом. Буквы радостно отплясывали польку, но их танец прерывался печальным событием — похищением Прозерпины Плутоном. Наступал хаос, персонифицированный группой танцовщиков, барахтавшихся внутри общего разноцветного костюма. Пратикабль «Похищение Прозерпины» состоял из двух частей, на которых проводами были выведены прерывистые контуры вздыбившейся лошади, повозки с веселым богом и запрокинувшейся в отчаянии девицы. Торжественным проездом этого рисунка вдоль рампы завершалась череда «пластических поз» (илл. 40). Балет провалился у публики, критики обрушили на него шквал обвинений в «эротическом бесстыдстве», «снобистских вывертах» и «инфантильной примитивности». Последнее замечание приближается к сути дела. Рисованные персонажи действительно напоминают картонных кукол игрушечного театрика — такого, например, какой был у маленького сына Пикассо. Но к движению плоских фигурок присоединяются танцоры, так что раздвижная картинка оживает, как в детском сне. В пратикаблях проступают черты самопародирования. Так, Грации — гротескная переработка темы антикизированных купальщиц: в ромбовидных пересечениях обнаженных конструкций, как и в вышеупомянутых рисунках, прием опредмеченной штриховки доводится до гротеска. Немецкий исследователь Сабине Фогель справедливо замечает, что подвижные конечности Ночи аналогичны многочисленным рисункам 1924 года, в которых пересечения линий «спаиваются» жирными точками38. Но если в «человеко-декорациях» царит условность обнаженного приема, то живые танцовщики облачены в легкие просторные хитоны, в короткие туники белых и голубых цветов. Меркурий танцевал в пеплосе и сандалиях с крылышками. Судя по фотографиям, артисты шаржировали позы античных статуй. Тональность бело-голубого «классицизма» нарушалась пестрым костюмом Полишинеля, фигуры «из другой оперы» (он ассистировал Меркурию при изобретении алфавита). Эскиз этого костюма, великолепно выполненный в пастели (Париж, собрание Арансуэнц), соотносится с иной стилистической линией в искусстве Пикассо. Поверх трико надеты жесткий белый жилет, словно заимствованный у фехтовальщиков, тюлевая балетная юбочка и короткий красный плащ, прикрепленный к запястьям наподобие крыльев порхающей бабочки. Этот «ассамблаж» разрывает фигуру на куски — так же, как разрываются фигуры в «Трех музыкантах». Полишинель врывается на сцену в момент пиршественного апогея, помогая Меркурию упорядочить буквы алфавита. Но он же предваряет наступление хаоса, когда Плутон вдруг похищает одну из участниц застолья. Толчки танцовщиков, перекрытых эластичным разноцветным мешком, приводят в движение розовые, сиреневые, голубые, желтые и зеленые пятна. Вслед за этим бурным колыханием «лирической абстракции» от одной кулисы к другой проезжает в мерном темпе фанерка пратикабля — ироничный символ победы вековечного мифа над превратностями случая. Зрители, разочарованные бессвязностью эпизодов и «немотивированными искажениями» античной мифологии, явно «смотрели не в ту сторону». Сломав привычную логику развития сюжета, Пикассо заменил ее драматургией стилей, конфликтным столкновением разных пластических форм. Отдельные позы и группировки балета он разрабатывал в эскизах. О них стоит сказать особо. Рисунки выполнены непрерывной линией так, что фоновое поле затягивается, вливается в форму, возникает парадоксальное явление «телесной пустоты». Особенно великолепен набросок фигуры, взлетающей в широком прыжке (илл. 42). Неуловимые перетекания пустот в фигуру создают ощущение какого-то эфирного тела, беспрепятственно рассекающего пространство. В группе из трех танцоров, слившихся в экстатической пляске, голова одной из вакханок очерчивается падением линии от рук к корпусу, так что возникает поразительный контраст вскинутых в мускульном усилии рук и бесплотной полости свисающей головы (Париж, Музей Пикассо). Виртуозные импровизации карандаша точнейшим образом передают импульсивность буйного танца. Тем же приемом непрерывно петляющей линии прорисованы фигуры сценического занавеса к балету — Арлекин с гитарой и Пьеро со скрипкой (Париж, Национальный музей современного искусства, илл. XVIII). Рисунок отчетливо обозначает прозрачные фигуры, наложенные поверх цветных пятен. В литературе о театральных работах Пикассо отмечается лишь этот, восходящий к кубизму, прием разделения цвета и рисунка39. Однако здесь фоновые пятна сгущаются в теневые персонажи. В абрис лица Арлекина вклинивается чужеродный профиль, вовлекая в фокус зрения притаившуюся позади фигуру. Красное пятно, притягивая к себе часть корпуса Арлекина, также обращается в фигуру, то ли сидящую у гитариста на колене, то ли стоящую в круто развернутом контрапосте. Контур гитары остается неизменным, и похоже, что ее струны перебирают сразу три музыканта.
Позади прозрачного Пьеро складывается еще более любопытная мизансцена. Коллажеподобные цветные формы разрывают его надвое. В белом пятне проступает целиком задрапированная в гиматий статуарная фигура, повернутая к нам в три четверти, а за ней — серый человечек, с любопытством заглядывающий ей через плечо. Пригнувшись, он прячет за спиной смычок — тот самый, которым в первоплановом, «графическом» варианте размахивал Пьеро. Два этих персонажа сцеплены, как шарниром, общим элементом — рисунком головы. Голова Пьеро, зависшая отдельно от корпуса, уподоблена маске с воротником и прорезями для глаз и рта. Эта форма дважды выворачивается, в зависимости от того, какую из двух теневых фигур мы рассматриваем. То она выглядит профилем плута-соглядатая, то физиономией музыканта в белом гиматии, который словно только что обнаружил исчезновение смычка и с возмущением обернулся к тихо подкравшемуся похитителю.
Диалог сцепившихся в перебранке паяцев тем более выразителен, что увидеть ту или иную комбинацию можно только последовательно, одну за другой. Вот мы сосредоточились на силуэте мошенника, стащившего смычок и сующего свой нос за плечо спеленатой покрывалом фигуры. Нетрудно догадаться, чем вызван его жгучий интерес. Неопределенно очерченный корпус скрипки перекрывает лицо таинственного музыканта и, уменьшаясь в масштабе, уподобляется какому-то духовому инструменту — губной гармошке или той же флейте Пана. Украденный смычок античной статуе не нужен. Но когда из-под ее плаща выскакивает разъяренный профиль, загадочный инструмент, увеличившись в относительных размерах, перемещается к плечу, вновь обращаясь в скрипку. Скрипач заметил подкравшегося вора и тянет к нему руку, чтобы отобрать смычок. Этот обмен репликами — «На чем ты там теперь играешь?» — «Отдай смычок, негодяй!» — выразителен, как в перепалке клоунов. Между тем Пьеро, словно не подозревая, что происходит у него за спиной, продолжает азартно исполнять свою партию, широко размахнувшись перед очередным эффектным пассажем. Таким образом, если в компактной группе Арлекина три персонажа мирно бренчат на одной и той же гитаре, то в группе Пьеро, более растянутой, скрипка-свирель становится яблоком раздора, из-за нее завязывается трудно разрешимый спор. Между тем на первом плане валяется, никем не замечаемый, еще один струнный инструмент — мандолина. Пьеро и Арлекин стоят на каком-то подобии деки. Ее изогнутый абрис создает впечатление качелей, на которых поочередно поднимаются и опускаются комедианты, что побуждает зрителя концентрировать внимание то на одной группе, то на другой. Инструменты, включаясь в рекомбинации фигур, «перекидываются» в разные ситуации, вовлекаются в круговорот событий. Композиция занавеса предваряет метаморфозы мифологических персонажей на сцене. Очевидно, что прием скрытого сюжета, найденный в занавесах к «Параду» и «Треуголке», здесь усложняется и обогащается опытом, приобретенным в живописных и графических работах начала двадцатых годов. Одна и та же форма кодирует несколько фигур в последовательно меняющихся мизансценах. Эскизы к занавесу «Меркурия» свидетельствуют об упорных поисках спрессованных образов40. В них Пикассо, апробируя разные варианты, отчетливо выделял «теневые» фигуры тональными контрастами и усиленным нажимом линии (илл. XIX, 41). В законченной композиции эти контрасты приглушены, цвета подчинены единой мягкой гамме. Завуалировав фигуры «второго плана», художник рассчитывал одарить зрителя радостью неожиданного открытия. «Чувство зрения, — говорил он, — получает наслаждение от удивления. Если вы сосредоточились на том, что находится прямо перед вашими глазами, вас отвлекает мысленный образ, застрявший в вашем сознании... Здесь тот же закон, что управляет юмором. Только неожиданная острота заставляет вас смеяться»41. Но вышло иначе. Даже тренированный глаз искусствоведов проскальзывает мимо затаившихся фигур, замечая лишь неопределенные пятна. Их стягивание в изображения требует значительных усилий. Возможно, Пикассо рассчитывал на присущую ему самому уникальную скорость зрительных операций. В результате замаскированные сюжеты оказались за порогом восприятия даже наиболее опытных зрителей42. Приведем любопытный эпизод, свидетелем которого стал Роберто Отеро, фотографировавший Пикассо в его поздние годы. В сентябре 1966 года Кристиан Зервос, который продолжал в то время свою работу над полным каталогом произведений мастера, принес ему фотографии кубистических рисунков для подтверждения их подлинности и датировки. Сразу отбросив несколько фальшивок, Пикассо с недоумением остановился на собственном рисунке: «— Я здесь ничего не вижу. А ты? Внимательно рассмотрев репродукцию, я вынужден был честно признаться, что не различаю в ней ничего, кроме скопления пересекающихся прямоугольников, полукружий и кубов. Фотоснимок вернулся к Зервосу. Пикассо: А ты, Зервос, видишь в нем что-нибудь? Зервос: Нет... Ничего не вижу. Сцена повторяется несколько раз. Наконец, при взгляде на старый рисунок в четвертый раз, у Пикассо наступает озарение. Его глаза вспыхивают. Пикассо: Ну вот, теперь понятно: это — боксеры... Вы видите? И в самом деле, из смутных переплетений ромбов и кубов, как по волшебству, явились два боксера, изготовившиеся к ударам в лицо друг другу»43.
Пикассо заведомо знал, что в его рисунке непременно должен быть второй план, хотя поиск оказался непрост и для него самого. Но как только, по его слову, спала геометрическая пелена, все присутствующие увидели скрывавшуюся за ней сцену — замечательная иллюстрация к концепциям психологов, раскрывающих роль мыслительных категорий в зрительном восприятии. В 1925 году Пикассо, возобновив контакты с труппой Дягилева в Монте-Карло, сделал большую серию рисунков с натуры — танцовщики на репетициях и в паузах между ними (илл. 43-47). Они пленяют не только красотой тонких линий, но и верностью поз отдыхающих артистов. В кратких перерывах между экзерсисами натруженные мышцы танцоров ищут расслабления в необычных позициях. Они закидывают ногу на палку, провисают на переплетенных вокруг нее руках, опираются о нее спиной, одновременно отталкиваясь стопой от стены. Один танцовщик, беседуя с товарищем, отвел ногу в аттитюде и ухватился рукой за щиколотку; его корпус растянулся в блаженстве и покачивается, как в гамаке. Другой, также увлеченный разговором, уперся в полусогнутое колено, занеся другую ногу назад. Отдыхающие артисты приподнимаются на пальцы, упираются носком в пол, скрещивают ноги в балетных позициях и, сидя на полу, подтягивают к корпусу колени. Видимо, художника особенно интересовала многократно повторяющаяся поза сидящих на скамье нога на ногу с широко отведенным в сторону коленом и упором руки в подъем стопы. В естественнейших для балетных артистов позициях глаз Пикассо схватывает чередование напряжений и расслаблений, крепких упоров и провисаний, пружинистых раскачиваний и винтообразных разворотов. Трудно отделаться от впечатления, что именно эти натурные штудии послужили неким импульсом для совершенно иной графической серии, созданной в 1928 году. В механоморфных конструкциях — своеобразных экзерсисах на соотношение давлений и натяжений, жестких спаек и балансировок — обнажается органика взаимосвязанных, сцепленных в одном теле движений. Зоркость наблюдателя и фантазия изобретателя тесно переплетены в искусстве Пикассо. В нем нет абстракций — только абстрагирования, то есть отношения, извлеченные из самой природы. «Художник, — говорил он, — вместилище впечатлений, идущих отовсюду — от неба, от земли, от клочка бумаги, от проскользнувшей тени, от паутины. Поэтому мы должны отказаться от дискриминации вещей. В мире вещей нет классовых различий. Нужно подбирать все, что нам подходит, все, что попадет под руку»44. Важное место в творчестве Пикассо 1920-х годов занимают натюрморты. Чаще всего они объединяются в серии, где одна и та же постановка предстает в разных условиях наблюдения. Лето 1919 года Пикассо, завершив работу над «Треуголкой», проводил на модном курорте Сен-Рафаэль, где им была начата, а затем продолжена в Париже большая серия гуашей с изображением стола перед распахнутой балконной дверью.
В октябре того же года она была показана на персональной выставке в галерее Поля Розенберга. Исследователи справедливо отмечают их связь с театральной практикой организации мизансцены на фоне живописного, чаще всего пейзажного, задника. По-видимому, эти композиции проистекают из нереализованного в «Треуголке» замысла выставить перед занавесом кубистическую конструкцию45. Однако связь с театром проявляется здесь и иначе — в динамической трактовке пространства, которое словно пронизано магнитными силовыми линиями, приводящими предметы в движение. Сравним две гуаши этой серии. В одной из них (Люцерн, галерея Розенгарт, илл. XX) предметы расположены на круглом столе с открывающимся за ним светлым фоном утреннего морского пейзажа. В другой (Женева, собрание Берггруэн, илл. XXI) состав предметов тот же, но столик под ними четырехногий, а сгустившаяся синева фона, четкая тень от балконной решетки на порозовевшем полу указывают на время солнечного заката. Освещение не только преображает предметы, но и меняет их относительное расположение.
В первом из рассматриваемых натюрмортов светлый фон выталкивает стол вперед. Кажется, что он тяжко переступает на кривых ногах, удаляясь от балкона. Под воздействием толчка овал столешницы накренился вперед и белая скатерть вывернулась в вертикальную плоскость. Предметы начинают соскальзывать с нее, цепляясь друг за друга. Первой падает нотная тетрадь, за ней сползает гитара. Отходящая от ее корпуса тень уподобляется руке, которая тщетно пытается подхватить тетрадь. Но сама гитара прилипла к темной плоскости, позади которой находится другая, светлая. Между ними вклинивается вращающееся на подставке круглое зеркальце. Его повернутый вверх диск перерезается тенью, так что он приобретает вид зажима, которому надлежит сомкнуть расходящиеся плоскости и удержать от падения всю связку разъезжающихся предметов. В натюрморте из собрания Берггруэн стол приобретает вогнутую форму, словно под давлением неудержимой силы, которая вталкивает его в амбразуру дверного проема. Движение в глубину подчеркивается веерообразным схождением теней от балконной решетки. Складки скатерти втягиваются внутрь, уходя за уровень передних ножек стола. Салфетка, словно попав в струю воздуха, завихряется и вспучивается, ее край протестующе поднимается. Нотная тетрадь тем же порывом прибилась к дверной панели. Вещи с трудом удерживаются на месте, сопротивляясь засасывающей силе незримого потока. Зеркальце, выставив вперед ножку подставки, крепко уперлось в поверхность стола, а улетающая гитара уцепилась натянутыми струнами за дверную раму. Левая половина стола уже проехала мимо двери, зато скопившиеся в правой части предметы усиленно цепляются за ее створку, сопротивляясь грозящему им выталкиванию. Нотная тетрадь словно тянет за собой отражение розового косяка в стекле, а световой ореол вокруг полированной ножки стола увеличивает ее объем втрое, создавая дополнительное препятствие для ухода актерствующих предметов в провал балкона. Похоже, что сила тяготения вот-вот возобладает, струны гитары захлопнут открытую дверь, и тогда сама собой затянется удерживаемая ею занавеска. Великолепный спектакль, созданный волшебством заходящего солнца, подходит к концу. Некоторые эскизы к этим натюрмортам, выполненные по линейке, больше похожи на сценографические проекты. В них перспективная коробка мыслится как декорационная установка, в которую вдвигается, наподобие пратикабля, стол с предметами. Кроме того, сцепления предметов в отдельных группах Пикассо прорабатывал в макетах из гибкого картона, словно пытаясь убедиться в реальности задуманных им соотношений46. В одном из «чертежных» эскизов плоскость стола пересекается силуэтом человека с гитарой в руках (Париж, Музей Пикассо). Музыкант словно вошел через распахнутые двери, откинув занавес. Дж.С. Боггс, куратор и составитель каталога выставки «Пикассо и вещи», отметив театральность композиции «утреннего» натюрморта, заключает свой анализ такими словами: «Возможно, именно запутанность отношений в этой гуаши провоцирует ожидание, что кто-то должен появиться на сцене и оживить декорацию с ласково манящим небесным фоном»47. Актеры и в самом деле появляются — не только в эскизах, но и в завершенных натюрмортах. Стоит лишь расфокусировать зрение, и сквозь пелену расплывшихся предметов проступят фигуры паяцев. В первом случае это Пьеро в белом балахоне. Его позиция меняется дважды. Он делает стойку на руках, удерживая на поднятой ноге тарелку с катающимся по ней шариком, затем становится на колено, касаясь руками краев широкополой шляпы и словно готовясь отвесить поклон после лихо исполненного номера, и, наконец, повернув голову к левому плечу, показывает надетую на нее маску собаки. При этом он делает шаг в том же направлении, будто уходя со сцены и на прощание помахивая публике рукой. Нотная тетрадь в этих метаморфозах исполняет роль то лица кувыркающегося эквилибриста, то болтающейся на шее Пьеро гитары, то прижатой к его груди руки. В вечернем варианте игра предметов также завершается мизансценой из живых персонажей. Далеко отъехавший натюрморт складывается в маску Пьеро с воротником, образованным фалдами «бывшей» скатерти. На переднем плане, по обеим сторонам, подпирая спинами двери, стоят два господина. Один, в белом костюме и при галстуке, но с собачьей маской на лице, засунул руки в карманы. Голова другого, в сером пиджаке, скрыта под темной накладкой. Он похож на фотографа, снимающего актера после спектакля. Впрочем, зритель, как и в других случаях, волен компоновать «закулисные» образы на свой лад. В своих фантазиях Пикассо исходил из наблюдения живой реальности. Все мы знаем, как меняются предметы с изменением освещения, какие волшебные превращения происходят с ними под воздействием последнего предзакатного луча. Солнечный круговорот, подобно круговому тревеллингу кинокамеры, приводит вещи в движение. Запечатлев две противоположные точки положения Солнца, Пикассо лишь ускоряет и гиперболизирует естественный процесс. С исключительной точностью он передает и ровный утренний свет, заливающий комнату, и вечерние сумерки, с их контрастами густых синих теней и розовых отблесков. Свет в его натюрмортах наделяется магнетической силой. Она толкает предметы вперед и назад, надавливает на поверхности, формируя то выпуклые, то вогнутые объемы, материализует падающие тени и отражения. Подхватывая подсказку натуры, художник превращает оптическую энергию в движущую механическую силу. В одной из гуашей этой серии стол дан в обратной перспективе, и его расширившаяся крышка застревает в дверном косяке, останавливая движение. Не случалось ли нам в жизни — в сумраке, в тумане, на большом расстоянии — гадать по смутным очертаниям, какие объекты скрываются в них? В своих композициях с явными и скрытыми мотивами Пикассо фактически моделирует именно этот процесс поиска предметных значений путем построения гипотез и их апробирования. Побуждая зрителя испытывать разные комбинации форм, находить наиболее вероятные, «правдоподобные» сочетания, он стимулирует врожденную поисковую активность зрения. При этом его острота не играет особой роли, даже напротив — потаенные образы лучше стягиваются при слабом освещении или прищуривании глаз. Это как раз то, что в беседах Пикассо называл trompe-l'esprit (обман ума), в противоположность trompe-l'œil (обман зрения). Именно игре ума предается зритель, пытающийся расшифровать пикассовские загадки. У Пикассо даже реалистические образы вещей если не антропоморфны, то, во всяком случае, наделены какой-то одушевленностью. Его туалетный столик словно принимает на себя вид своей хозяйки — принарядившейся к выходу, «распушившей перья» дамы, которая, охватив лицо руками, смотрится в зеркало (илл. 49), а кувшин, стоящий перед вазой с яблоками, уподоблен наседке, заботливо наставляющей свой выводок (илл. 50). Многие натюрморты начала двадцатых годов выстраиваются из наслоений разноцветных плоскостей, в подражание технике коллажа. В них часто встречаются игральные карты, как символ случайного выпадения удачной комбинации. Глаз пробирается сквозь ералаш плоских вырезок, блуждает наугад, тасуя и отбрасывая карты, но непременно наталкивается на счастливый исход, когда вдруг из этой неразберихи выплывает какой-нибудь веселый гитарист, африканская маска, фрукты в корзинке или подвешенная на стене клетка с птицей («Птичья клетка», 1923, Нью-Йорк, собрание Ганц). В «Мандолине и гитаре» (1924, Нью-Йорк, Музей С. Гуггенхейма, илл. XXII) преобразование натюрморта в пейзаж протекает в замедленном темпе. Исходный мотив тот же, что и в гуашах 1919 года, — стол с предметами перед распахнутыми дверями балкона. Вещей совсем немного: гитара, мандолина, вазочка в виде птицы и три яблока. Все объекты трактованы плоскостно. Однако сопровождающие их разноцветные тени насыщают пространство дополнительными формами, многократно уплотняя композицию. Скатерть с узором в ромбик в чередующихся полосах света и тени трижды меняет свой цвет. Ощущение пространства сохранено, но его интервалы сжимаются и растягиваются. Так, стоящая почти вертикально гитара опирается грифом на удаленную стену, а ее искривленные очертания и двусторонние тени раскачивают формы инструмента. Вазочка в центре легко преобразуется в кошку, крадущуюся с поднятым хвостом. Наверное, ее нюх вернее нашего глаза, и она опознала под видом яблок устрицы или иную кошачью снедь. Этот объект-оборотень, рассекающий композицию черной извилистой трещиной, дает сигнал к ее изобразительной перестройке. Намеренно снизив остроту зрения, мы заметим, что, по мере расфокусировки объектов, сжатое пространство распрямляется в глубину, как отпущенная пружина, и затягивает в себя предметы. Словно под воздействием стереоскопа, их плоские личины наполняются объемом, одновременно обретая иные предметные значения. На месте померкшего натюрморта возникает марокканский дворик во вкусе Матисса. По солнечной дорожке идет мусульманка с занавешенным чадрой лицом («бывшая» кошка, она же птица). Перед ней сидит на коленях в молитвенной позе фигура под белым покрывалом. На переднем плане на мягком ложе возлежит женщина, повернув голову к молящемуся. Желтый овал мандолины превращается в сплющенное предзакатное солнце, окруженное красным ореолом. Оно окрашивает тени у подножья строений в розовые и фиолетовые тона. Перетекание образных значений в данном случае совершается медленно, с усилиями и заминками. Мотив дворика стабилизируется с трудом, выходит из-под контроля, и едва распрямившееся пространство снова слипается в плоскостный натюрморт. Все происходит так, как будто наш глаз обладает способностью накачивать пространство и сплющивать его в двухмерные планы48. Обратимся к сравнительному анализу двух натюрмортов с античным бюстом, созданных летом 1925 года в Жюан-ле-Пэн (Базель, частное собрание, илл. XXIII; Париж, Национальный музей современного искусства, илл. XXIV). Они также принадлежат к большой серии. На холстах одинакового формата запечатлена одна и та же постановка: мандолина, палитра, слепок с античного бюста, тетрадь и ваза. Покрытый скатертью стол располагается перед стеклянной дверью балкона. Разница — в освещении и небольшом изменении угла зрения. В базельском варианте предметы, омытые синевой сумеречного освещения, разделены паузами. Мы рассматриваем их с фронтальной позиции, наш взгляд движется параллельно плоскости окна, перебирая вещи одну за другой. Стол застелен какой-то жесткой тканью, больше похожей на лист плотной бумаги49. На ее упруго изгибающейся поверхности предметы взлетают и опускаются, двигаясь вразнобой по вертикальным осям. При этом, в силу неопределенности контуров и пространственных отношений, складываются разные комбинации, в которых меняется сам облик предметов. Так, гипсовая голова, подтянув к себе нотную тетрадь, обращает ее в пьедестал. Вспучившаяся скатерть подбрасывает мандолину, подменяя ее легкой рыбешкой. Горизонтально лежащая палитра поднимается, превращаясь в стоящую маску, а вазочка, соскользнув за край стола, обретает сходство с кошкой, которая положила лапки на его край, по-видимому прельщенная своим любимым лакомством. Предметы прыгают, как акробаты на батуте, одновременно совершая фокусы превращений. Трансформации усиливаются, если отклонить плоскость композиции. Такая манипуляция не должна казаться неуместной, ведь отсутствие центральной перспективы предполагает подвижность позиции зрителя, и Пикассо уже преподносил нам уроки поворота изобразительных плоскостей в других работах. «Ночной» парижский натюрморт так сильно отличается от базельского, что с первого взгляда в нем трудно увидеть те же вещи, на том же фоне. Постановка преображается светом лампы и иной позицией наблюдения — чуть левее и выше. Теперь предметы располагаются по некоторой диагонали, частично перекрывая друг друга, из-за чего создается впечатление их плотной сомкнутости. Эта густота усиливается светотеневыми контрастами, возникающими при освещении единственным источником. Мандолина, в базельском натюрморте все же покоившаяся горизонтально, теперь строптиво поднимается, обращая к нам свой одноглазый лик. Вазочка, увиденная в этом ракурсе, обнаруживает свое содержимое — ломоть дыни или арбуза. Нотная тетрадь также переместилась, встав вертикально прямо под вазой, а палитра перекрыла нижнюю часть бюста, почти слившись с ним и притворившись полукружьями женской груди. Можно сказать, что здесь перемена ракурса выполняет ту же функцию, что и смена форматов в других картинах Пикассо. Четко расставленные вдоль передней плоскости предметы, развернувшись, смещаются по отношению к оси зрения. Сузившееся пространство выталкивает их вверх и прижимает друг к другу, порождая сдвоенные образы-гибриды.
Коричневые тона усиливают ощущение вязкости форм. Детали утопленных в тени вещей процарапываются острым предметом, и красочный слой уподобляется сырой глине, из которой формуются размягченные тенями объемы. Магия ночного освещения слепила предметы в комок, и теперь из него рождаются иные образы. Трудно предположить, что в эту крепкую слаженность могут проникнуть «потусторонние» образы. И тем не менее это так. Зрительно стянув конфигурации на фоне окна, мы увидим склоненное женское лицо, с затененным веком, ярко высвеченными скулами и белым воротничком, окаймляющим шею. Белые контуры на переднем плане превращаются в руки, касающиеся то ли гипсовой головы, то ли собаки. Мы можем гадать, чем занята женщина — лепкой бюста или ласканием животного, но в любом случае компактно расставленные предметы перестроились в жанровую сценку. Одиночные скачки базельского натюрморта здесь сменились согласованным перетеканием изображенных предметов в единый сюжет — ночная фантасмагория, сотканная из световых бликов и ползущих теней. В беседе с Брассаи Пикассо признавался: «Мое электрическое освещение великолепно, я даже предпочитаю его естественному... Этот свет, который выделяет каждый объект, эти глубокие тени, которые создают силуэты и ложатся на потолки, — вы найдете их в большинстве моих натюрмортов, ведь почти все они писались ночью... Каким бы ни был антураж, он проникает в самую нашу суть, влияет на нас и организуется, следуя нашей натуре»50. Его манила загадка теней, этих естественных изображений на плоских и изогнутых поверхностях. Тени подвижны, они множат объекты, реформируют их — растягивают, сплющивают, сгибают под углом, создают удивительные пересечения. С легкой руки Альфреда Бара в литературу вошло понятие «криволинейный кубизм», относящееся к живописи Пикассо двадцатых годов и последующих десятилетий51. Дело здесь, конечно, не в гнутых линиях, сменивших ломаные кубистического периода. Пикассо изменил ориентацию взгляда, направив его на соотношение не выступающих ребер, а плоскостей. При этом моделирующая светотень нивелируется. Зато самостоятельную роль начинает играть тень падающая — искаженная проекция предмета на соседнюю поверхность. Тень становится дополнительной плоскостью, спутницей предмета. Она передразнивает его формы, меняя их до неузнаваемости, прячется за ним, выступает за его границы, ложится под разными углами, пересекает реальные очертания, окрашивается в разные цвета. Особой сложностью динамических построений отличается знаменитая «Мастерская с гипсовой головой» (1925, Нью-Йорк, Музей современного искусства, илл. XXV). Вещи, представленные на фоне стены с филенкой, расположены под разными углами, но словно прижаты к вертикальной поверхности. На заднем плане виден игрушечный картонный театрик Паоло, развернувшийся двумя перспективными декорациями римского города. В одну из них закатился спелый плод — персик или яблоко. На стол брошены смятая клетчатая скатерть, раскрытая книга, измерительная линейка, гибкий стебель с листьями. В мельтешении дробных форм выделяются три крупных объема — гипсовые слепки головы, согнутой в локте руки и нижней части ноги, данной в таком ракурсе, что она больше похожа на руку. Крупные планы разъятой на части статуи заставляют гадать о том, какого героя древности она представляла. Рука крепко сжимает то ли свиток, то ли обломок копья или царственного жезла. Положение сжатых пальцев двусмысленно, и создается впечатление, что две руки схватились в борьбе за жезл52. Линейка переломлена тяжестью бюста на кубическом пьедестале, а прямоугольная тень превращает этот плоский предмет в тяжелый брус, придавливающий гипсовую ногу. Пальцы стопы судорожно сжаты, словно она пытается высвободиться из-под свалившегося на нее груза. Хаотическое состояние вещей, их падение по вертикали, сломы формы наталкивают на представление о некой катастрофе или смуте. Отголосок давних потрясений, археология на столе. В поднятой на постамент античной голове слиты по крайней мере шесть лиц, с разными выражениями. Белый профиль уставился на нас расширенным зрачком, в котором сквозят и страх, и требуемая декорумом решимость. При расширении зрительного поля, подключении к нему голубой тени лицо поворачивается в три четверти, и теперь хорошо виден гордо вскинутый подбородок. Однако черная тень позади отбрасывает на стену совершенно иную проекцию — плебейски уродливой головы, то ли лопоухой, то ли безобразно курносой. С противоположной стороны проступает профиль человека, который кричит, приставив руку рупором, наморщив лоб и нос от напряжения. Между этими крайними точками горделивого величия и яростного крика вращается еще несколько ликов. Один из них — страдальчески закинутый, с поднятыми вверх глазами — весьма напоминает Лаокоона. На другом, повернутом в противоположную сторону, запечатлелась горькая, растерянная усмешка. И, наконец, еще одно лицо склонилось вперед в глубокой задумчивости. Физиономии с разным выражением формируются скользящим взглядом, последовательно собирающим разные комбинации из разбросанных точек, овалов, полукружий, завитков. Круговорот ликов, схваченных кольцом единой формы, — этот прием станет постоянным в дальнейшем творчестве Пикассо. В картине намечаются и другие сюжеты. В абрисе руки и сопровождающей ее тени смутно проступает форма швейной машинки, а на месте театрика маячит фигура, склонившаяся за какой-то тихой работой. Возможно, скрытый сюжет — интерьер швейного ателье или мастерской художника. (Обе эти темы возникают в двух картинах 1926 года, которые будут рассмотрены ниже.) Такое предположение, окажись оно верным, могло бы привести к заключению, что Пикассо намеревался противопоставить атрибуты искусств, с их доведенной до критического слома риторикой, размеренному течению повседневности. Как и в «атрибутах искусств» XVIII века, все вещи в пикассовском натюрморте относятся к сфере «высокой культуры» — книга и угломер, серебристая оливковая ветвь, слепки с классических статуй и макет театра. Но эти эмблематичные предметы теснятся и ломаются, скатываются с накренившейся крышки стола, словно в насмешку над торжественной парадностью традиционных аллегорических постановок. В натюрмортах Пикассо вещи размножаются и анимируются, наделяются некой психической энергией, что превращает «мертвую натуру» в увлекательный спектакль со сменой декораций и мизансцен. Вариативность изобразительных форм имеет принципиальный характер и проистекает из присущего художнику восприятия реальности. «Реальность, — говорил он в беседе с Пенроузом, — заключается в том, как вы видите вещи. Зеленый попугай — это одновременно и попугай, и зеленый салат. Тот, кто пишет только попугая, сужает его реальность. Художник, копирующий дерево, теряет из виду дерево реальное. Я воспринимаю вещи иначе. Пальма может стать лошадью»53. В середине двадцатых годов из-под кисти Пикассо вышло несколько полотен с человеческими фигурами, которые ознаменовали некий рубеж в его творчестве. В них художник, удаляясь от коллажеподобных построений, ищет новые стилистики. Картину «Танец» (Лондон, Галерея Тейт, илл. XXVI) Пикассо считал одним из лучших своих созданий и лишь с большой неохотой, поддавшись на уговоры Пенроуза, согласился продать ее Галерее Тейт. Она была написана летом 1925 года в Монте-Карло, где пребывала в то время труппа Дягилева. «Танец» часто рассматривают как прощание Пикассо с балетом, хотя картина пронизана совсем иными ритмами — джаз-данса, ритуальных негритянских плясок. Танцоры располагаются на том же фоне, что и натюрморты, написанные в Жюан-ле-Пэн: балконная дверь, распахнутая в вечернюю синеву, и обрамляющие ее обои с характерным Ж-образным рисунком. В центре выделяется фигура обнаженной женщины. Притопывая ногой, она движется прямо на нас. Положение ее рук неуловимо меняется, а голова то вскидывается назад, то поворачивается удивленным профилем к партнерше слева. В левой группе слились несколько фигур. Юная вакханка с нагой грудью, перегнувшись назад, встряхивает хвостом рыжих волос. Прогиб ее корпуса так силен, что между спиной и отодвинутой рукой образуется округлый проем. Сквозь него видно синее небо и заходящее солнце, по слепящему диску которого ползут белые полосы. Но и эта форма перетекает в другую: девица разгибается и, подхватив синий круг рукой и плечом, переиначивает его в музыкальный инструмент, что-то вроде банджо. Позади нее появляется кавалер в маске и шутовской шапочке. Он галантно обнимает плясунью, одновременно размахивая красным шарфом в такт наигрываемой мелодии. Но, повернувшись в профиль, он кажет уже другую личину — какого-то животного. Бестия целует красотку взасос, почти заглатывая ее лицо. Ее юбка в красно-зеленую полоску кажется прозрачной, сотканной из косых солнечных лучей. Это некий «последовательный образ», возникающий как реакция глаза на сильный световой раздражитель. Девица, по-видимому обнаженная, как и первая, прикрылась зеленым плавающим миражом, вспыхнувшим на несколько секунд как контрастное отображение красного солнца. На то указывают и вибрация дополнительных цветов, и просвет небесной сини. На фоне этого марева возникает собачья голова. Она ломает фигуру любовника пополам и, воссоединившись с нижней, согнутой под углом формой, превращается в обнаженный торс пианиста в красных брюках и с поясом на бедрах. Он сидит в глубине, его голова и руки тонут в лучах светящейся юбки. Образы перетекают друг в друга, плотно сцепленные в единой связке. Однако и световые рефлексы, и тени способны не только завязываться в клубок, но и резонировать, отбрасывая проекции на значительные дистанции. Похоже, что правая группа вообще нереальна, ибо целиком состоит из отражений. Перед нами двуцветная, будто облаченная в клоунский костюм, фигура. Однако ее темную часть можно увидеть как разросшуюся тень пианиста, а белую — как профильное отражение центральной танцовщицы, с ее вскинутой рукой и острым выступом груди. Две половинки склеиваются в целую фигуру, лихо отплясывающую вместе с остальными персонажами. Весьма выразительно положение ее согнутой в колене ноги. Из-за неопределенности глубины, завуалированной темным фоном, нога то раскачивается в воздухе из стороны в сторону, то опускается в широком перекрестном выпаде. Особенно интересна встреча рук центральной танцовщицы с тенями и отражениями. Формы пальцев, как при соприкосновении с зеркалом, точно повторяются. Пикассо придает им сходство с застежкой-молнией, поддразнивая нас ожиданием защелкивания замка, заклинивания всех зубцов в пазы. На стекло левой дверной створки падает уже не отражение, а тень руки и груди центральной танцовщицы. Здесь пальцы скрещиваются, и вся волнистая форма насаживается на голову персонажа в маске, как дурацкий колпак с бубенцами. Картина Пикассо — это «фигуры танца» в буквальном смысле. Мы воочию созерцаем движения, их ломаные ритмы, взмахи рук и ног, наклоны корпуса. Перемещения фигур и переклички теней происходят в напряженной цветовой среде, где мягкие переливы розовых, терракотовых, сероватых тонов перебиваются резкими ударами синего, красного, белого. Принятое в Галерее Тейт название «Three Dancers» вряд ли оправдано. Танцующих фигур или гораздо больше трех, или только одна — центральная. Все остальные — призраки, порожденные колдовством теней, солнечных лучей и их отблесков. В правом верхнем углу отчетливо проступает силуэт человеческого лица. Это профиль скончавшегося в том году Рамона Пичота, давнего друга Пикассо — что-то вроде посвятительной надписи, дань памяти ушедшему близкому человеку. В хоровод теней вторгается воспоминание. В связи с этим картина часто трактуется как своего рода надгробие или танец смерти с распятием в центре54. Правомерность такой интерпретации можно обсуждать. Но в любом случае, углубляясь в биографические факты, она обходит стороной изобразительную ткань, сплетенную из мнимостей и фантомов. Известно, что Пикассо приступал к работе во второй половине дня и засиживался до глубокой ночи. При этом он пользовался сильной лампой направленного света. Не этим ли, по сути театральным, освещением подсказана его пляска теней и отражений в темном ночном стекле?55 В том же году была создана другая известная картина — «Поцелуй» (Париж, Музей Пикассо, илл. XXX). В ней формы настолько изломаны и перекручены, что означенный в названии сюжет прорисовывается с трудом. Сидящий на полу мужчина сжимает в объятиях женщину, втиснувшуюся между его широко расставленными ногами. Ее голова то откидывается в истоме, то с жадностью приникает к лицу любовника. Перекошенные губы мужчины вдвигаются в открытый рот партнерши, сливаясь с ее острым, жалящим языком. Конвульсивно скрюченные пальцы босых женских ног ощетиниваются колючими шипами. Впечатление неистовой, граничащей с агрессией сексуальности усиливается, когда мы замечаем осклабившегося крокодила, ползущего вдоль нижнего края картины. Однако и в этом полотне есть второй изобразительный слой — благопристойная пара, чинно усевшаяся на садовой скамейке. Мужчина и женщина целомудренно держатся за руки, и между ними резвится ребенок. Повернувшись спиной, он превращается в порхающего Амура. Форма внизу — отнюдь не крокодил, а тряпичный клоун, позади которого видна раковина с обнаженной фигурой — какая-то деталь мещанской обстановки прошлого века. В таком видении грубые деформации смягчаются, вытесняясь утрированным, но вполне правдоподобным изображением буржуазного благочиния. Весьма вероятно, что «Поцелуй» — парафраза какой-то картины XIX века. На это предположение наталкивает картина 1970 года «Семья» (Париж, Музей Пикассо), сходная с «Поцелуем» по фигуративному составу и композиции. Пикассо часто работал одновременно над двумя, а то и несколькими картинами, развивая в них параллельные версии пластической темы. Зимой 1926 года им были выполнены два полотна — «Художник и модель» (Париж, Музей Пикассо, илл. XXVIII) и «Ателье модистки» (Париж, Национальный музей современного искусства, илл. XXIX), которые, на наш взгляд, следует рассматривать в паре. Вероятно, они, как и две версии «Трех музыкантов», писались одновременно. Композиции одного формата написаны приемами имитации противоположных графических техник — линейного и тонального рисунка. В первой из них линии петляют по холсту, как нити разматывающегося клубка. Вторая формируется тональными пятнами, как в размывке тушью. В «Художнике и модели» отчетливо проступает лишь одна фигура — живописца, склонившегося над своей палитрой. Он смотрит прямо на нас, и вокруг его руки завязывается тугой узел. Здесь начальная точка образотворческого процесса: от кончика карандаша исходят три линии, разбегающиеся широкими витками по всему холсту. Они кружат и переплетаются, ненароком захватывая в свои петли контуры разномасштабных фигур и предметов — птицы, человеческой стопы, корпуса женщины, обнимающей спеленатого младенца, сидящей в кресле модели. Художник как будто рисует на стекле и собственное отражение, и пробегающие перед его взглядом фигуры. В фоне картины перемежаются светлые и темные участки, словно по ее полю проползает тень. Если сосредоточить внимание на контрастах просветов и затемнений, фигуративный слой начнет меняться. В таком режиме видения тонкие линии тонут в фоне, а вырезы светлых окон, прерывая вязь толстых нитей, стимулируют образные перевоплощения. Правое конусообразное окно складывается в сидящую фигуру, закутанную с ног до головы в белые одежды. Она весьма близка к задрапированному музыканту в занавесе к «Меркурию». Перед этой монахиней склонился в позе покаяния художник. Его лицо, наполовину затененное, теперь обращается к нам профилем. Отведенная назад рука, скрываясь в затемнении, пробирается к соседнему окну, в котором видны два силуэта молодых послушниц с молитвенно сложенными руками. Наиболее поразительное превращение происходит в крайнем левом окне, где на месте матери с ребенком появляется крупный план женской головы, перетянутой биндой. Лицо с завязанными глазами наполовину погружено в тень. Но, покидая затененную часть, голова проворачивается внутри неподвижной повязки, и из-под ее сузившейся полосы хитро выглядывает подсматривающий глаз. Сюжет преобразился. Похоже, что художник, оказавшись в монашеском окружении, грешит и кается одновременно, а некая надзирательница заметила его недостойные притязания на внимание своих юных подопечных. Каким же образом в мастерскую живописца проникли посторонние фигуры? По всей видимости, в картине совмещены два плана, наложенных друг на друга как прозрачные картинки: отражение в стекле рисующего художника и привлекшая его взгляд сцена в окнах напротив. Сделанные рукой Пикассо зарисовки мастерской на улице Ля-Боэси показывают, что в ней было два окна и балконная дверь. Если полотно находилось у противоположной стены, его трехчастная композиция, скорее всего, была подсказана этими тремя проемами, открывающими вид на окна дома напротив. Всем нам не раз доводилось созерцать эти отрывочные и потому чарующие своей загадочностью картины, вырезанные из потока жизни оконной рамой. Кто-то подходит к окну и долго смотрит в него, перекрывая вид комнаты. В глубине происходит какая-то сцена, затем люди исчезают за простенком, и мы даем волю своей фантазии, угадывая ее продолжение. Мотив подсматривания исподтишка, столь частый у Пикассо, соотносится, прежде всего, с фигурой художника — неутомимого соглядатая, выкрадывающего у реальности ее тайны. Судя по рассказу Элен Пармелен, Пикассо весьма занимали совмещения встречных планов на стекле. В декабре 1963 года, в Мужене, он показывал своей гостье цветные диапозитивы с классических картин, спроецированные в сильном увеличении на белую стену. Демонстрация проходила поздним вечером, и воин из «Избиения младенцев» Пуссена отражался в застеклении противоположной стены, сплавляясь с ночным пейзажем. «Он парит в воздушном пространстве по ту сторону стекла и, втягиваясь в зрительную игру, перекрывает все небо. В пуссеновскую картину вписываются и звезды, и весь холм Мужена, и фары проезжающих машин, которые блуждают теперь среди воинов с поднятыми клинками, — влитое в стекло «Избиение младенцев» оставляет незабываемое впечатление»56. Если об источнике мотива «Художника и модели» мы можем лишь высказывать предположения, то по отношению к парной картине, «Ателье модистки», он определяется документально. В каталоге ретроспективной выставки Пикассо 1955 года есть сделанная с его слов запись: «Эта мастерская находилась как раз на противоположной стороне улицы, на нее выходили окна квартиры Пикассо на улице Ля-Боэси»57. Появившиеся недавно сомнения в достоверности этой записи, равно как и попытки пересмотреть сюжет картины, не имеют, на наш взгляд, сколь-нибудь веских оснований58. В зарисовках Пикассо собственной мастерской за стеклом балконной двери видна мансарда с тремя окнами. Вероятно, здесь и находилось ателье по пошиву шляп. Гризайль картины пульсирует пятнами света, отраженного от стекла. Изображение формируется из ленточных завихрений, вздутий и провисаний, взаимопересечений прозрачных пленок. Головы девушек в центре поворачиваются то влево, то вправо, меняется и положение их фигур. Шляпы, навешанные на стойку, складываются в огромную голову с меняющимися лицами — прямой аналог многоликого античного бюста в натюрмортах Пикассо. Но в этом полиморфном объеме не менее отчетливо проступают и другие образы — старухи, опершейся подбородком о клюку (его Пикассо разрабатывал в эскизах), и пожилой мастерицы, склонившейся над работой. Мастерица сидит в той же позе, что и художник в предыдущей картине, — в позе предельной сосредоточенности ворожеи, погрузившейся в свое колдовство. Необязательные, лишь «допустимые» образы картины меняются, как плывущие сгустки тумана, рассеиваются и вновь собираются по иной схеме. Блуждая в тугих переплетениях жгутов, взгляд натыкается то на одну, то на другую комбинацию, и игра фантазирующего видения протекает с той же непринужденностью, что и формотворчество самой природы. Есть очевидный параллелизм в трехчастном построении двух картин: колеблющиеся лица и фигуры слева, два девичьих профиля в центре и самая загадочная, насыщенная отражениями правая часть. В «Ателье модистки» эта зона выделена белым прямоугольником полуоткрытой двери с застекленным верхом. В нем виден темный мужской силуэт. От дверного стекла исходит волна полупрозрачного полотнища — образотворческой ткани всей композиции. Мастерицы с изумлением оглядываются то налево, то направо, и в их вертящихся головах не раз проглядывает обезьяний лик. Зеркало, окно, обезьяна — старинные символы мимесиса, и скошенный прямоугольник застекленной двери уподобляется мольберту со стоящим на нем портретом. Две картины не только изоморфны по структуре, но и связаны тематически. Мастерская модистки и мастерская художника — пространства образотворчества, созидания новых форм. Ворожба крутящихся линий, затягивающих в свои петли обрывки реальности, и вихри тканевых полотнищ, творящих из светотеневых переливов иллюзорные объемы. Существует ли общее звено реальности, опосредующее сюжеты обеих картин? Можно предположить, что в первой из них Пикассо изобразил тех же мастериц, уподобив их монастырским затворницам. В упомянутом силуэте мужской фигуры угадывается автопортрет — отражение в балконной двери мастерской Пикассо. Дверь полуоткрыта и заклинивается в этом положении двумя сцепленными формами — круглая дверная ручка схватывается полукружьем, похожим на гаечный ключ. Этот замок символически обозначает сцепление двух мастерских, двух параллельных планов — интерьера мастерской и наблюдаемой из него заоконной реальности. В правых частях обеих картин доминирует бесплотная тень художника, проникающая в наружное пространство59. Отражающее оконное стекло выполняет роль незримой границы, на которой встречаются противоположности — пейзаж и интерьер, реальность и ее отсвет, наблюдатель и наблюдаемое, художник и модель. Обе композиции словно соревнуются с кинематографом — с его наплывами, двойными экспозициями, чередованием противоположных ракурсов и мгновенными перелетами в пространстве. Горизонталь холстов, весьма необычная для пикассовской живописи, разделяется на три части, подобно трехкадровой последовательности в киноленте: крупный план лица, средний — взирающих на него персонажей и, наконец, третий кадр, в котором в мизансцену вторгается еще одно лицо, меняющее ситуацию. Эффект мелькания света в «Ателье модистки» также напоминает мерцание черно-белых изображений на экране. Пикассо задумывался о перспективах кинетизации живописи еще в кубистический период. Канвайлер передает в своих воспоминаниях содержание беседы с художником, состоявшейся около 1912 года: «Есть ли такая возможность? Фактически есть две возможности. На ту и другую указывал Пикассо в наших разговорах, даже не подозревая о том, что они имеют научные основания, и не пытаясь воплотить их на практике. В первом случае речь идет о физическом движении тела. В произведении искусства его можно привести в движение, подключив часовой механизм... Но есть и другой способ — вызвать впечатление движения в сознании зрителя посредством стробоскопии, на которой основан кинематограф... Этот прием уже применялся для анимации юмористических рисунков. Если писать различные картины на прозрачном материале и демонстрировать их через кинопроектор, перед живописью откроется новое поле неизмеримых возможностей»60. Перспективы киноживописи и, прежде всего, абстрактной анимации манили многих художников авангарда. К тому времени Мэн Рей и Марсель Дюшан, Ганс Рихтер и Викинг Эггелинг, Леопольд Сюрваж и Фернан Леже создали интереснейшие работы на кинопленке, заложив основы новой формы пластического искусства. Пикассо не пошел по этому пути. Ему не нужны были бегущие картинки, поскольку он открыл аналог кинескопа в психической энергии зрения. Глаз, в его понимании, обладает даром телекинеза: он приводит предметы в движение, сталкивает их с места, формирует группировки по своему вкусу, перебирает наложенные друг на друга прозрачные слои. Можно было бы сказать, что пикассовские композиции — предтечи современных интерактивных игр, но они рассчитаны на более искушенного «пользователя», умеющего управлять своим зрительным аппаратом, переключать его на разные режимы работы. Оставаясь в пределах живописи как чисто пространственного искусства, Пикассо подключил к ней свой «часовой механизм» — время рассматривания картины, движения глаза по ее полю. Многие его создания — какие-то кунстштюки, механические или пневматические игрушки со скрытым заводным механизмом. При нажатии невидимых кнопок они вздуваются и опадают, раздвигаются по параллельным осям и снова складываются, являя череду взаимосвязанных ситуаций и сюжетов. В связи с этим встает немаловажный вопрос о творческом методе мастера. Как он работал? Держал в голове одновременно несколько композиций? Или мультиплицировал их поэтапно? Пикассо многократно рассказывал об этом, но, кажется, его признания не до конца поняты. Приведем известный отрывок из беседы с Кристианом Зервосом, состоявшейся в 1935 году: «В прежние времена картина продвигалась к завершению по этапам. Каждый день приносил что-то новое. Как правило, картина представляла собой сумму добавлений. В моем случае картина — сумма разрушений. Я создаю картину — и затем разрушаю ее. Но в конечном итоге ничто не исчезает: красный цвет, который я убрал в одном месте, появится где-то еще. Было бы очень интересно зафиксировать на фотографии не этапы создания картины, а ее метаморфозы. Может быть, тогда стал бы ясен путь, которым движется сознание в процессе материализации грезы. Но есть одна весьма странная вещь — в основе своей картина не меняется, первоначальный образ остается почти нетронутым, вопреки видимости. Я часто задумываюсь о свете и тенях, уже проложенных в картине; я стараюсь переломить их цветом, тогда создается совсем иной эффект. Когда работа сфотографирована, я замечаю, что все корректировки первоначального образа исчезли, и фотография в конечном итоге соответствует моему первоначальному видению, существовавшему до того, как я приступил к трансформациям... Приступая к картине, вы часто делаете приятные открытия. Но они должны вас настораживать. Разрушьте созданное, сделайте это несколько раз. С каждым разрушением удачного открытия художник не потопляет его, а, скорее, трансформирует, сгущает, делает более значительным. Конечный итог — результат отвергнутых находок... Вы думаете, меня занимает, что на какой-то из моих картин изображены два человека? Некогда они существовали для меня, но больше их нет. Их видение дало мне предварительный эмоциональный толчок; затем мало-помалу их присутствие стало отодвигаться, они все больше переходили в фикцию, а потом и вовсе исчезли, или, точнее, растворились во всевозможных проблемах. Теперь, как вы видите, это уже не два человека, а формы и цвета, которые вобрали в себя образы двух людей и хранят в себе трепет их жизни»61. Эти слова часто цитируются. Обычно в них видят авангардистскую риторику мятежа, стремление работать наперекор правилам и мало обращают внимания на другой аспект — сохранности первозданного образа, его неустранимости из «разрушенной» картины. Точно так же искусствоведы целиком сосредоточиваются на деформациях и их экспрессивных качествах, не замечая «вторичных», «производных» образов, которые теперь, исходя из разъяснений Пикассо, следует назвать первичными и базисными. Психологические исследования дают объяснение этому феномену, получившему название «иллюзии Линкольна». В экспериментах, проведенных в 1973 году Л.Д. Хармоном и Бела Юлешом, испытуемым предъявлялся профильный портрет Авраама Линкольна, плотно замаскированный квадратами разной тональности. Однако при затуманивании изображения каким-либо способом, например прищуром глаз, лицо отчетливо проступает сквозь скопление мелькающих квадратов. Сокращение зрительной информации способствует опознанию объектов62. В связи с этим в вышеприведенных цитатах нам представляется особенно интересным признание Пикассо в том, что фотография открывает ему «первоначальное видение». Анн Бальдассари, внимательнейший исследователь пикассовских фотоархивов, находит это признание «странным и темным»63. Однако достаточно взглянуть на некоторые тусклые снимки, приведенные в ее публикациях, чтобы понять, о чем толковал художник. В них действительно сами собой проступают другие образы. Бальдассари цитирует письмо Пикассо к Канвайлеру, который регулярно фотографировал его работы: «Вчера я получил фотоснимки, они хороши и, как всегда, доставляют мне удовольствие тем, что удивляют. На них я вижу свои картины иначе, чем они есть»64. Видимо, с этим же связано странное для художника воодушевление перед скверными репродукциями своих произведений: «Иногда я нахожу в репродукции вместо своих цветов совсем другие, настолько далекие от моих, что приходишь в состояние шока... И случается так — это даже странно, — что худшие воспроизведения, в которых все искажено, где больше ничего не осталось от моей живописи, прямо-таки воодушевляют меня... Я говорю искренне... Это удивление — не стоит ли над ним поразмыслить? Это как новая версия, новая интерпретация, то есть пересоздание созданного... Что дает мне безупречная репродукция? Я просто нахожу в ней собственную живопись... Тогда как плохая репродукция подсказывает идеи, открывает новые горизонты»65. В этих словах можно усмотреть некий вызов. Но нетрудно заметить, что в репродукциях пикассовских картин с сильно перевранным цветом меняются отношения между элементами и, стало быть, они группируются иначе, возникает другой изобразительный текст. Возможно, выявить потаенную композицию помогут некоторые технические манипуляции — фотографирование с разной степенью резкости, распечатка снимков от предельно контрастного до самого слабого, применение фильтров или каких-нибудь оптических приборов. Как бы то ни было, но пикассовская «драма» должна быть восстановлена, как и в случае с «эскизами» и парными картинами-диптихами. Иначе мы рискуем пропустить в искусстве мастера едва ли не самое главное — его динамическую, метаморфную сущность. При сопоставлении явного и скрытого образов обнаруживаются внутренние коллизии, тонкие смысловые сцепления, обнажается многослойная структура, порожденная уникальным методом. При этом следует помнить, что мы прослеживаем путь художника в обратном порядке, от конца к началу, — преодолевая череду «разрушений», подбирая осколки «первоначальной идеи». Известно, что, как правило, Пикассо начинал с реалистического изображения, которое затем подвергал различным деформациям. Эти эрозии мы видим в первую очередь, но под ними хранится первоначальный образ. Иногда он проступает с неожиданной, почти ошеломляющей убедительностью. «Поцелуй», на наш взгляд, не принадлежит к лучшим созданиям Пикассо. И все же, когда разорванные формы картины вдруг складываются, как при случайной встряске, в жизнеподобное изображение степенной пары, мы понимаем, что художника интересовал именно переход от буржуазного благочиния к разгулу инстинктов. Созерцая это сползание со скамейки, это раздрызгивание тел силой неудержимого сексуального влечения, мы постигаем саму двойственность человека, наличие в нем стихийно-природного и цивилизующего начал. Вне этой двуплановости картина многое теряет, сводится к манифестации радикальных экспрессивных приемов или дерзости в отображении «запретной» темы. В конце двадцатых годов Пикассо ищет новые способы передачи движения. К этому времени относится серия маленьких картин, выполненных в августе 1928 года в Динаре. В них представлены купальщицы, бегущие по пляжу, играющие в мяч, ныряющие в воду. Вот девушка, сделав несколько шагов, подхватывает падающий мяч («Игра в мяч на пляже», Париж, Музей Пикассо, илл. XXXII). «Правильное» отображение ее позы в этот момент дает тень, отброшенная на стенку пляжной кабины. Но абстракция «остановленного мгновения», хотя и подвластна автоматической регистрации, все же плохо согласуется с живым восприятием. Существо, несущееся с большой скоростью, увлекает за собой глаз наблюдателя, и кисть Пикассо скользит по траекториям движения корпуса, рук, ног, вычерчивая некую диаграмму пролета фигуры в пространстве. Распределение масс следует за потоками энергий. Купальщица плывет в небесной лазури, вытягиваясь, как птица, хватающая на лету свою добычу. Конечно, фигура, вобрав в себя «световые следы» предшествующих движений, сильно деформируется. Прямые планки ног далеко раздвинуты, а их расширившиеся книзу лопасти с силой отталкиваются от земли, подбрасывая тело вверх. В изломе рук сохранились отпечатки двух предыдущих мгновений — подбрасывания падающего мяча ударом снизу и его подхватывания в вышине. Паукообразное страшилище надменно перешагивает через собственную «красивую» тень, запертую в узкой клетке кабинной стенки. Малые размеры динарских картин (примерно в альбомный лист) побуждают относиться к ним как к этюдам, в которых Пикассо вел разведку новых источников, питающих творческую мысль. В них часто повторяется мотив купальщицы, открывающей ключом дверцу кабины для переодевания. По-видимому, в этом мотиве содержится эротическая символика. Но глухие плоскости кабин выполняют и другую роль — ширмы или шторки, скрывающей за собой фигуры-невидимки. В «Купальщицах на пляже» (Париж, Музей Пикассо) серые полосы кабин срезают композицию по краям, и невероятные создания, составленные из геометрических фигур, движутся вереницей от одной ширмы к другой, как будто незримая нить вытягивает их из ящика фокусника. В одновременных рисунках (так называемая динарская тетрадь 1044) Пикассо расширяет диапазон движений, испытывая их на той же модели купальщицы-растопырки. Каракатица приседает, ловя посланный ей мяч, изгибается в прыжке, выбрасывая вперед руки и ноги. Она то с силой отбивает мяч, откинув ногу назад, то, сделав широкий выпад и отклонившись в сторону, ловко подхватывает его или, пригнувшись, пасует ударом сверху назад. Все движения переданы с такой точностью, будто образцом послужили современные спортивные фотографии. В некоторых рисунках сильно вытянутые, перекрученные конечности играющих в мяч уподобляются то ли лесным зарослям, то ли древним криптограммам, и все же их прыжки, взмахи, наклоны неизменно узнаваемы (илл. 51). Новооткрытую идиому Пикассо применяет в крупноформатных полотнах. В картине «Пловчиха» (1929, Париж, Музей Пикассо, илл. XXXIII) фигура ныряльщицы медленно вращается и колышется, как водоросль, как бескостная актиния. В абсурдном на первый взгляд расползающемся во все стороны головоногом создании нетрудно распознать очертания плывущего под водой человека — стоит лишь подключить к рассматриванию картины наши двигательные представления и припомнить, как выглядят объекты под слоем прозрачной воды. Ныряльщица совершает винтообразные движения навстречу нам, ее руки и ноги меняются местами, а тело то растягивается, то совсем пропадает в волнующейся, оптически неоднородной среде. С замечательной простотой передает Пикассо эффект частичного исчезновения формы вследствие преломления света: контурные линии руки смыкаются в тонкую нить. В серии «Акробатов» 1929—1930 годов художник также синтезирует в одномоментном образе несколько быстрых движений. Циркачи подпрыгивают, приземляются, их ноги и руки меняются местами, формы то эластично вытягиваются, то расплываются как капли вязкой жидкости на стекле («Акробат», 1929; «Голубой акробат», 1930, обе — Париж, Музей Пикассо, илл. XXXVI, XXXVII). Плоскостные, едва тронутые цветом фигуры похожи на теневые проекции или отражения в стекле, но их позы и на сей раз поразительно правдивы. Вполне естественно, что движение искажает стабильную форму, раскачивает ее. На полотнах возникают «чудища» и «каракатицы», принесшие Пикассо нелестную славу мизантропа, фрондерствующего провокатора и сокрушителя основ. Обратимся к одной из скандальных картин — «Большая обнаженная в красном кресле» (1929, Париж, Музей Пикассо, илл. XXXI). В ней очевидно сказался опыт динарских штудий. Отдыхающая женщина сладко потягивается, зевает, закинув руку на спинку кресла, а ногу — на подлокотник. Ее расслабленное тело сползает с сиденья, увлекая за собой белую ткань чехла. Конечно, прописывая черной краской искривленные контуры разлатой, диспропорциональной фигуры, Пикассо рассчитывал на шоковый эффект. Однако шок — удар, резкий толчок, назначение которого — сбить восприятие с привычного пути, направить его в иное русло.
«Неясные» формы «Большой обнаженной» передают потоки живых энергий в расслабленном теле — длительных растяжек, скольжений, давлений, вялых провисаний. Заметим, что именно в такой позе — закинув руку и подогнув ногу — сидят некоторые танцовщики в балетных зарисовках 1925 года. Абстракции Пикассо — не столько отвлечения, сколько извлечения из натуры. Они обладают эвокативной силой, способностью вызывать в представлении живой образ реальности. «Нужно дать зрителю средства самому создать обнаженную, создать ее своими глазами»66. Текучие формы сливаются и расходятся, отдаваясь на волю зрителя, «созидающего своими глазами». Мысленно расширив пределы фигуры, подключив к ней фрагменты красного кресла, мы увидим модель, которая сидит на низкой скамейке, опираясь на нее одной рукой и охватив другой щиколотку согнутой ноги. Ее склоненная голова обращена к нам лицом, грудь полуприкрыта сиреневой косынкой, а нижняя часть тела целомудренно задрапирована белой тканью. Бесстыдно раскинувшаяся каракатица обретает облик одалиски Матисса67. Если видеть в таких фигурах только монстров, неизбежно возникнет вопрос, зачем понадобилось художнику уродовать портретируемых, чаще всего близких ему людей. На путь поиска ответов искусствознание встало давно, накопив к настоящему времени целую библиотеку истолкований. Набор представленных в них мотиваций столь велик и разноречив (от антифашизма до антифеминизма, от садистской эротики до метафизики), что порождает сомнения в правильности исходных посылок68. Верно ли был поставлен сам вопрос? И есть ли надобность при объяснении пикассовских «монстров» уходить от них в далекие сферы философии, этики и политики? Атакуя наше восприятие, искушая его уродством, художник приводит сознание в состояние замешательства, а значит, стимулирует зрительскую активность. «Нужно пробудить людей. Опрокинуть их способ идентификации вещей. Надо создавать неприемлемые образы. Чтобы люди закипали. Чтобы они поняли, что живут в странном мире. Мире ненадежном. Не таком, как они полагают...»69 И дальше, в беседе с Мальро, в типичной для него вопрошающей интонации, Пикассо высказывает никогда не покидавшие его сомнения: «Ведь существуют формы неясные, как в первоначальном наброске, формы, которые затем уточняются, перевоплощаются? Почему это? Может быть, потому, что они соответствуют чему-то глубокому в нас, очень глубокому? Важны ли здесь сами формы или их способность что-то выражать?»70 Пикассо зондирует глубинные слои нашей психики, в которых происходит становление зрительного образа, и бессознательные процессы, всплывая на поверхность, становятся фактом сознания. Самое знаменитое «чудовище» — «Сидящая купальщица» из Музея современного искусства в Нью-Йорке (1930, илл. XXXV). В контурах фигуры проступает вполне реальный облик обнаженной, скрестившей ноги и обхватившей колено сцепленными руками. Пропорции не искажены, и, по всей видимости, Пикассо применил здесь свою обычную методу — вначале создал реалистическое изображение, а затем перекроил его, превратив фигуру в пространственную конструкцию. Теперь она состоит из пустот и оболочек, выемок и выпуклостей. Глаз легко скользит по гладким, словно выточенным из дерева деталям, но, разогнавшись, упирается в тупики, попадает в зрительные ловушки. Возможен ли такой разворот в пространстве двухлопастной формы, обозначающей грудь? Поверхности перекручиваются и подменяют друг друга, как в ленте Мёбиуса, а места переходов тщательно замаскированы. Как сочленяются левая рука и ребристая оболочка спины? Что означает вогнутая белая форма — горизонтальную поверхность почвы, вертикаль какого-то низкого парапета или внутреннюю поверхность чашеобразной емкости? Путешествуя по этому лабиринту, подбирая ключи к его тайникам, мы наконец осознаем, что художник ввергнул нас в то состояние поисков и сомнений, которое одаривает видением «ненадежного» в своей изменчивости мира. Фигура сквозит просветами, зыблется, как дрожащий в перегретом воздухе мираж. Мерцающая фантасмагория принадлежит миру зрительных феноменов, и ее тонко отрегулированная система не нуждается в оправдании ни социальными катаклизмами, ни «метаниями» травмированного сознания. В обманчиво-объемных формах «Сидящей купальщицы» проявилось новое увлечение Пикассо скульптурой. Он возобновил занятия ею в 1928 году, встретившись с испанским скульптором Хулио Гонсалесом. Опыт Гонсалеса, работавшего методом сварки металлических заготовок, оказался ценным для него. В результате этого сотрудничества возникли четыре проволочные конструкции, три из которых сохранились (все — 1928, Париж, Музей Пикассо).
В том году исполнилось десять лет со дня смерти Аполлинера, и некоторые из этих конструкций Пикассо замышлял как проект памятника рано скончавшемуся другу (илл. 52, 53). В «Убиенном поэте» Аполлинер вывел в заключительной новелле Пикассо под именем Бенинского Птаха. Друзья погибшего поэта Крониаманталя обсуждают, какой памятник ему поставить. «Из чего сделать статую? — спросила Тристуза. — Из мрамора? Из бронзы? — Нет, это слишком старо, — ответил Бенинский Птах. — Я должен изваять ему статую глубокую, созданную из ничего — как поэзия, как слава». Пикассо отнесся к этому тексту как к завещанию и намеревался осуществить его в сооружении из тонких стержней, пронзающих воздух. В таком пространственном рисунке металлические линии вычерчивают сложные стереометрические фигуры, непрерывно меняющиеся при круговом обходе. Наклонные пирамиды, дуги и вертикали, овалы и прямоугольники то растягиваются в глубину, то распластываются фронтально, сжимаются в тонкий профиль. Сквозь линейную решетку проскальзывают антропоморфные формы. Диски, отмечающие схождение наклонных линий, служат глазу маяком, настраивая его на поиск лиц и человеческих фигур. Совершая обход, зритель вылавливает «пустотные» формы, затерявшиеся в пересечениях стержней.
Вышеупомянутая динарская тетрадь позволяет проследить генезис проволочных конструкций. Они и в самом деле родились из рисунков на бумаге — небрежно брошенных на нее штрихов, наклонных и вертикальных линий. Порой эти почеркушки сгущаются до неразборчивости, но, всматриваясь в них, можно различить уходящие в глубину планы. Пикассо выявляет их посредством жирных точек у концов линий, перемычек, стягивающих лучи угла, в местах пересечения кругов и прямоугольников. Так в линейных дебрях проступают плоскости. Они зрительно раздвигаются, располагаясь в пространстве.
Еще в 1924 году Пикассо приступил к большой серии абстрактных рисунков. Прочерченные тонким пером линии — прямые, ломаные, дугообразные — также образуют сложные пересечения. Их перекрестья скреплены спайками крупных точек. Графическая структура удерживается этими «заклепками» в одной плоскости, пришпиливается ими к поверхности листа (илл. 54, 55). Но и эти плоскостные решетки мыслятся художником как проекции объемов. Они возникли под впечатлением от астрономических карт, на которых светила соединяются тонкими линиями в конфигурации созвездий. Пикассо поразил этот переход абстрактных схем в фигуративность. В вымышленных им «созвездиях» проступает множество реальных форм — очертания музыкальных инструментов, вертящихся флюгеров, качающихся рычагов и шатунов, каких-то человечков — сигнальщика, размахивающего флажками, барабанщика с палочками, жонглера, вращающего булавы. Точечные корпускулы, соединенные тягами линий, — вероятностный мир хаоса, в котором человеческое сознание прозревает разумный порядок. Для Пикассо ценность абстракции состоит как раз в том, что она чревата предметностью, способна отпочковывать от себя множество образов: «Нет «фигуративного» и «нефигуративного» искусства. Все является нам в виде какой-то «фигуры». Даже метафизические идеи выражаются посредством символических «фигур». Представление о живописи, лишенной фигуративности, — смешная нелепость. Человек, какой-то объект, круг — все это «фигуры»; они воздействуют на нас с большей или меньшей силой. Одни ближе к нашим ощущениям и вызывают непосредственные эмоции, другие в большей мере обращены к разуму. И те и другие имеют право на существование, поскольку я нахожу, что разум так же нуждается в эмоциях, как и чувственное восприятие»71.
В ту же образотворческую стихию погружает нас Пикассо в своих настенных ассамблажах 1925-1926 годов. Собранные из ветхих, тронутых порчей материалов, фронтально развернутые на зрителя, они ближе к коллажам, чем к скульптуре. Мятый тюль, кусок изношенной дырявой мешковины, криво обрезанный картон, наспех завязанная узлами веревка — из этих аморфных текстур глаз лепит форму, как из сырой глины (несколько вариантов «Гитары», 1926, Париж, Музей Пикассо, илл. XVII). В мастерской Гонсалеса Пикассо создал несколько скульптур из металлолома. О метафоричности этих ассамблажей, преображении обыденных вещей в заданном художником контексте написано много верного. Гонсалес рассказывал, что при работе над такими вещами, как «Голова женщины» или «Женщина в саду» (обе — 1929, Париж, Музей Пикассо, илл. XXXVIII), они много смеялись. Это был тот же смех, которым смеялся Чехов на репетициях своих пьес, — смех радостного узнавания, удовольствия от точности игровых ходов, меткости попадания актеров (или актерствующих предметов) в задуманный автором образ. В альбоме эскизов, относящемся к лету 1928 года (парижская тетрадь 21), есть серия зарисовок фигур, составленных всего из двух элементов — слегка изогнутой зубчатой формы и формы скошенного четырехугольника с глубокой выемкой посередине (илл. 56, 57). Обе детали неведомого механизма имеют круглые отверстия для болтов. Не столь важно, подобрал ли Пикассо, по своему обыкновению, эти железяки на свалке или измыслил их сам. Поразительны перемены в позах и жестах двух фигур — женской (тонкой «пилы») и мужской, с тяжелым подбородком и квадратным затылком. Легкие смещения, едва заметные повороты форм относительно друг друга — и вот перед нами встают сцены семейной жизни. Мужчина и женщина то сливаются в страстном поцелуе, то истерически орут, тряся друг друга за плечи, то сцепляются в яростной схватке, как агрессивные насекомые. Супруг приподнимает жену за локти, затем умоляет ее о чем-то, а она отшатывается и протестующе встряхивает головой с клочком торчащих волос. Наконец обе формы сливаются в одну, весело смеющуюся рожицу. Наброски Пикассо обладают каким-то магнетизмом, от них трудно оторвать глаз — настолько манящи, неуловимы эти мгновенные смены жестов и физиономических выражений. В одном из рисунков два профиля представлены в интерьере в виде скульптурного ассамблажа. Его постамент имеет форму руки, подбрасывающей щелчком разлетающиеся железки; они вертятся на фоне стены, словно подыскивая удачное сцепление. Знаменитая моцартианская легкость Пикассо... Он действительно «работал щелчком» — быстрым движением руки, мгновенным броском взгляда, претворяющим предметную форму. Рассказывает друг и личный секретарь художника Сабартес: «Попавшееся на глаза полено может вызвать в его памяти другое, виденное много лет тому назад. Или, еще лучше, — присланный из родных краев плод черимойя вдруг напомнит своим овалом о сове. Положив фрукт перед собой, Пикассо замечает клюв и пару глаз в их точной позиции. При рассматривании сбоку в найденном образе появляются новые черты. Прощупав пальцами изгибы поверхности, он замечает: «Вот ее лапки, а вот и клюв». Он так уверен в своем видении, что легко бросает собеседнику: «Смотрите-ка, есть даже перышки». Перышки и в самом деле есть. Он увидел их для нас и за нас — этого достаточно»72. Тетради 1927-1928 годов наполнены набросками скульптур. Среди них — знаменитая серия карандашных рисунков, в которых Пикассо изобретает фигуры, не существующие ни в природном, ни в рукотворном мире (илл. 58). Объемы ясно очерчены и тщательно моделированы светотенью. Неправдоподобные существа тем не менее убедительны в своей биоморфности. Чудища взбухают мускулистыми выпуклостями, неуклюже переваливаются, тяжело шлепают по земле, выпускают во все стороны хоботы и конечности, настороженно шевелят щупальцами. Вымышленные создания настолько выразительны, что их вполне можно назвать подражаниями природе — в том смысле, как это понимал Пикассо: «Я не следую за натурой, плетясь позади нее, а, встав прямо перед ней, вступаю с нею в сотрудничество»73. Его неистощимая фантазия заимствует эталоны из любых источников — из мира флоры и фауны, геологических образований и древних мегалитических сооружений, предметов бытового обихода и технических устройств. Вот карандаш вычерчивает деревянные конструкции (илл. 59). Эти механоморфы далеки от современной машинерии, вдохновлявшей Пикабиа, Купку и Леже. Странновидные техноиды Пикассо пришли из сферы бриколажа, домашних самоделок. Наспех сколоченные подпорки, примитивные лесенки, кривые дощечки, шарики и колесики громоздятся друг на друга, складываясь в шаткие сооружения. В череде этих рисунков не раз возникает уже знакомый нам мотив поцелуя. Элементы несуразно хлипкой, рассыпающейся конструкции крепко связываются, как только проявляется ее антропоморфный потенциал. Падающая с шара лесенка — это отклонившаяся назад спина мужчины, и ее наклон уравновешивается сильным тяготением головы к лицу партнерши. Разваливающаяся система связывается теперь механикой телесных и эмоциональных сцеплений.
Опубликованные Вернером Шписом парижская тетрадь 21 и динарская тетрадь 1044 приоткрывают завесу над лабораторными опытами художника в переломный момент его творческой биографии74. Пикассо мыслит с карандашом в руках, прочерчивает маршруты на картах еще не исследованных территорий. По ним он пройдет в следующее десятилетие. Еще в 1928 году Карл Эйнштейн опубликовал статью, которая по сей день остается одной из лучших работ о творчестве Пикассо. Критик писал о присущем мастеру «плюралистическом духе»: «Видеть мир одновременно с противоположных позиций, разрываться надвое, сохраняя веру в собственные силы, искать истину в поле напряжения между двумя полюсами, не полагаясь на догматические предписания, и всегда жертвовать собственными открытиями — именно эти психологические свойства присущи Пикассо... Он овладевает полифонией стилей. Он неутомим в своей погоне за разными формальными системами, которые вспыхивают и угасают в его сознании, уже раскаленные добела жаром исторической необходимости. Этот художник, как никто другой, сумел раздвинуть границы художественной практики, расчистить ее русла от заторов навязчивых идей и косных предрассудков»75. Оказавшись в свободном пространстве вне стилей, Пикассо отыскивает метаязыковый инструментарий, пригодный для анализа разных стилевых парадигм. С неотступным упорством он исследует свойства визуальных языков — от фотографии до абстракции, от уличного просторечья граффити до классической риторики. В рисунке, в живописи, в скульптуре он тестирует стили, подвергает испытанию их формальную логику, обнаруживая под окаменелостями традиций и постулатов хитроумные механизмы, генераторы иллюзорной «самоочевидности». Хорошо известно высказывание Пикассо: «Искусство — ложь, но эта ложь учит нас постигать истину, по крайней мере ту истину, которую мы, люди, в состоянии постичь»76. Заранее обдуманная речь фальшива своей предумышленностью, но структуры языка обнажают подоплеку искусных построений, восстанавливая нарушенную правду. Стиль способен порождать сюжет из собственных ресурсов, выводить на поверхность нечаянные смыслы, исподволь корректировать художника, перефразировать его высказывания. В таких картинах, как «Источник» или «Возвращение с крестин», при столкновении разных изобразительных идиом обнажается их грамматический строй, взрывается однозначность, высвобождаются расходящиеся смысловые перспективы. Художник, еще в отрочестве овладевший инструментарием академической методы, освоивший в молодости весь спектр новейших открытий, насытивший свою память музейными собраниями Испании, Франции и Италии, с наступлением зрелости перешел к критическому созерцанию пластических систем. Обращение к аналитике миметических форм — важное событие, значение которого выходит далеко за пределы личной творческой биографии мастера. Начало этого поворота справедливо связывают с кубистической живописью, где созидание предметной формы сопровождалось расщеплением изобразительной ткани. Обратившись к классике, Пикассо не расстался со своей находкой двустороннего зеркала, позволявшего видеть одновременно натуру и способы ее воссоздания. Но поставленное им перед собой условие натуроподобия несравненно усложнило задачу, ее решение потребовало теперь более острого скальпеля, пригодного для совершенной микрохирургии. Разрезы столь тонки, а швы столь искусно заделаны, что такие работы, как портрет Ольги или парижский «Арлекин», создают обманчивое впечатление отступничества от кубистических завоеваний. Бретон, рассердившись на вдруг проявившуюся «лояльность» Пикассо к академизму, обозвал его неоклассику «абсолютным нулем» и «каникулами живописи»77. Пикабиа усмотрел в ней «современные тревоги, выраженные в манере Поля Пуаре»78. И по сей день классицизм Пикассо нередко трактуется как уступка консервативным вкусам великосветского бомонда, окружавшего в то время художника79. Но не более правы и те, кто увидел в стилевом непостоянстве Пикассо лишь метания бунтарского темперамента, строптиво отстаивающего свое право гулять по любым заповедникам. Если стиль тематизируется, то перебор его проявлений протекает по той же логике, что и расширение тематического репертуара. В том, как Пикассо исследует анатомию художественных форм, нет ни демонстративного диссидентства, ни капризного произвола. Стилевые аватары в его искусстве подобны сериям, в которых разные соотношения констант и «независимых переменных» приводят к разным художественным результатам. Критический, испытующий взгляд определяет своеобразие пикассовского классицизма, занесенного волею судеб в общий ретроспективный поток двадцатых годов. Французский неоклассицизм отличался и от итальянского новеченто, и от немецкой «новой вещественности» широтой исторических реминисценций. Художники, поэты, композиторы ориентировались на признанные эталоны мировой художественной культуры, осваивали наследие в широком диапазоне — от античности до романтизма. Так Дерен, называвший музеи «инициацией духа», компилировал мотивы, почерпнутые из помпеянской стенописи, искусства кватрочентистов, болонских академиков, Караваджо и Коро. Так Пикабиа, расставшись с дадаизмом, пародировал исторические и аллегорические жанры в брутальной, кичевой манере. В драматургии Кокто и Жироду, в музыке Пуленка и Мийо соседствуют наречья разных эпох. Это течение программной эклектики было предвестьем постмодернизма, с его музейными реставрациями и вояжами в прошлое. Но неоклассицизм двадцатых годов все же консолидировался под призывом «возврата к порядку». Заимствованные стили мыслились как некие «готовые объекты», строительные блоки, из которых складывалась выверенная архитектоника произведения. Имперсональность многостилья требовала «объективных», универсальных способов организации художественной формы — «принудительного порядка» Игоря Стравинского, «эстетики компаса и числа», провозглашенной Джино Северини. Однако у Пикассо над конструктивной волей преобладает воля к аналитической деконструкции. Он обладал уникальным даром визуального мышления, то есть способностью к зрительным преобразованиям, вполне сопоставимым с операциями интеллекта. Геометр древней Индии не доказывал теорем, его чертеж сопровождался единственным словом: «Смотри». И как математические закономерности постигаются здесь посредством созерцания фигур и их мысленных перестроек, так и пикассовские метаморфозы осуществляются в деятельном созерцании. Его искусство настоятельно взывает к нам: «Смотри!» Аналогия o «самоочевидной геометрией» древности не должна смущать своей отдаленностью. Чувственное восприятие концептуально в своей основе, а отвлеченное мышление оперирует зрительными образами. «Мыслительные элементы в перцепции и перцептивные элементы в мышлении взаимодополнительны, — пишет Рудольф Арнхейм. — Благодаря им человеческое познание организуется по единой модели и протекает как непрерывный процесс — от простейшего восприятия сенсорной информации до построения теоретических концепций высшего уровня»80. Вспышки непредумышленных образов поражали самого художника во время работы, и он нашел способ приобщить зрителя к захватывающему процессу открытия нового, одарить его радостью творческого озарения. Конечно, идеи соучастия зрителя в творческом акте воодушевляли многих современников Пикассо. Но только в его искусстве задается такой стремительный, неукротимый темп импровизаций. Стоит лишь переключить внимание или рассредоточить взгляд, как живописная форма приходит в состояние возмущения, выталкивает из себя целые генерации, каскады «самопроизвольных» образов. Объяснение этому феномену следует искать уже не только в программных установках, но и в особенностях индивидуального видения мастера, занявшего лидирующее положение в авангардном искусстве своего времени. Из кадров киносъемок, фотографий нам хорошо знаком этот пристальный, пронзительный взгляд широко раскрытых глаз. Людей из окружения Пикассо не раз поражало, как вдруг, прервав беседу, он вцеплялся взором в какой-то незначительный предмет, в отдаленную точку, целиком погружаясь в созерцание. Сабартес, постоянный свидетель «сомнамбулических» состояний своего друга, хорошо знал, что в такие моменты его нельзя отвлекать. Вперившийся во что-то, неотступно сверлящий пустоту взгляд свидетельствовал о глубокой поглощенности мыслительной работой. Пикассо смотрит — и это значит, что он мыслит. Франсуаз Жило рассказывает, что при работе над ее портретом, известным под названием «Женщина-цветок», Пикассо время от времени «уходил в дальний угол мастерской, где стояло плетеное кресло с высокой готической спинкой... Он усаживался в него, скрестив ноги, опершись локтем о колено, а подбородком на ладонь, закинув другую руку за спину, и так, в полном молчании, разглядывал свою картину подолгу, около часа. Лишь после этого он возвращался к работе над портретом»81. Какие зрелища возникали в его сознании в такие моменты самозабвенной погруженности в незаконченное полотно? Следя за цепной реакцией образов в его картинах, мы приобщаемся к этому в высшей степени интеллектуальному, эвристическому видению. Известно, что Пикассо был дислексиком, то есть в детские годы не мог овладеть навыками чтения и письма. С возрастом, как и у других людей с такой врожденной особенностью, способность к пониманию письменной речи восстановилась. Однако, как показали недавние нейробиологические исследования, компенсация в таких случаях происходит за счет функциональной перестройки мозга. Мозг дислексиков (а среди них высок процент людей неординарных способностей) отличается рядом особенностей82. В нем слабо выражена или вовсе отсутствует существующая в норме функциональная асимметрия. Необычная «равновесность» полушарий возникает вследствие большей развитости, насыщенности активными нейронами правого полушария, ответственного за чувственное восприятие. Другая особенность — сильно разросшееся мозолистое тело — «белое вещество» мозга, которое состоит из нервных волокон, обеспечивающих связи между полушариями. И, наконец, при чтении у дислексиков лишь частично возбуждаются расположенные в левом полушарии речевые зоны, но сильно активизируются обычно молчащие в это время зоны правого полушария. Отсюда следует, что в мозге дислексиков плотно переплетены логические и сенсорные функции. Вследствие функциональных смещений и увеличения числа аксонов, обеспечивающих обмен информацией между полушариями, работа с образами, с чувственными данными и работа с абстрактными категориями и моделями оказываются тесно взаимосвязанными. Исключительная художественная одаренность Пикассо, проявившаяся с раннего детства и развившаяся в гениальность, наверное, навсегда останется тайной за семью печатями. Но исследования нейробиологов приоткрывают завесу над некоторыми особенностями его мышления. Они способны, в частности, объяснить, почему «нормальное» зрение, нацеленное на стабильный образ, чаще всего не замечает его трансформаций в картинах Пикассо83. Он любил говорить, что «картину можно писать словами, точно так же, как можно живописать ощущения в поэзии»84. К условным знакам (буквам, цифрам, нотам) он относился как к пластическим единицам, чем, видимо, и объясняется особый артистизм его графем в кубистических полотнах. Образный строй его живописи раскрывается постепенно, как при чтении текста. Следить за движением визуализованной мысли — логикой ее переходов, антитез и параллелизмов — подлинное наслаждение. Каскады пикассовских шуток — игра творческого разума, раскачивающего инерционное восприятие, щедро делящегося с нами своими открытиями. Их можно назвать объективными в том же смысле, в каком мы говорим об объективности ренессансных открытий в области перспективы, ракурсных сокращений, пропорций человеческого тела, моделировки объема, световых и атмосферных эффектов. Они основываются на свойствах натуры и особенностях работы зрительного аппарата. Однако художник двадцатого века (Пикассо был здесь не одинок) внедряется в те глубоко скрытые перцептивные слои, в которых происходит поиск предметной формы, ее становление. Скольжения взгляда, нащупывающего объект, его непрестанные перенастройки и переброски, пропуски незамеченных деталей — здесь все проблематично, чревато досадными ошибками и нежданными находками. Отказ Пикассо от стабильной формы отнюдь не был бунтом анархиста. Мятежное сознание, весьма эффективное в иконоборчестве и отрицаниях, не способно к самодисциплине, к систематичности мышления. Не приходится сомневаться, что Пикассо руководствовался обдуманной тактикой. Его находки не раз опережали экспериментальные открытия ученых. Так, опыты, проведенные в 1957 году А.Л. Ярбусом, наглядно продемонстрировали, что при рассматривании изображений глаз движется скачками (саккадами), фиксируя отдельные точки картинного поля. Таким же образом мы обозреваем и реальные объекты — не плавным сканированием, а мгновенными бросками, так что зрительный аппарат не успевает отреагировать на промежуточные стадии. Композиции Пикассо, наполненные разрывами и пересечениями, схватывают и стимулируют этот заданный природой ритм. Саккады взгляда непроизвольны, бесконтрольны, поэтому выпрыгивающие фигуры застают нас врасплох. При фиксации разных точек, даже близлежащих, формы группируются по-разному, вызывая поразительное впечатление движущейся, ожившей живописи. Чутьем гениального художника Пикассо нашел способы подключить психический аппарат к своим картинам, то есть в буквальном смысле одушевить их, наполнить пульсациями человеческого сознания. Здесь уместно было бы вспомнить замечательную дзэнскую притчу: «Двое монахов спорили о флаге, один говорил: «Движется флаг», другой: «Движется ветер». Мимо шел шестой патриарх. Он сказал: «Ни флаг, ни ветер — движется ум»85. В беседах Пикассо часто ссылался на дальневосточную традицию в понимании искусства и даже говорил, что хотел бы быть китайцем. Его картины мобилизуют эвристические ресурсы человеческого восприятия, причем доля зрительского соучастия так велика, что становится невозможно провести сколь-нибудь определенную грань между замыслом художника и собственным субъективным видением. Пикассо вполне осознавал это: «Интересно, что люди видят в живописи то, чего ты в нее не вкладывал, — они вышивают по канве. Но это не играет роли, поскольку то, что они увидели, дает стимул, и существо увиденного ими действительно присутствует в картине»86. Формирование сюжета зависит от тех мишеней, в которые попадает глаз, от темпа и последовательности саккад. В этом действительно есть сходство с бросками игральных костей или выпадением карт. И не случайно эти предпочтительные модели математической теории вероятности и связанной с ней теории игр стали, со времен кубизма, излюбленными мотивами Пикассо. Остается лишь хорошо осознать, что в вероятностном мире нет истинных и превратных толкований. Что мы видим, зависит от того, как мы смотрим. Но именно в этом, очерченном самим художником, поле «объективных случайностей» разыгрывается основное действие картины — то, что Пикассо называл драмой. Здесь мы вступаем в более широкое культурное пространство. Известно, какая важная роль отводилась в эстетике авангарда творческой силе случая, самозарождению образов и форм из первостихии красочной материи, природных образований, из информационного шума и сора городской среды. Но и в науке двадцатого столетия наиболее революционные открытия были сделаны при изучении случайных процессов, хаотических состояний, вероятностных закономерностей. Термодинамика и квантовая механика, генетика и молекулярная биология, теория динамических систем и синергетика оказали решающее воздействие на мировоззрение нашего века. С возникновением и развитием этих дисциплин изменилась прежняя, детерминистическая картина мира. Спонтанные флуктуации в микромире и космосе, случайные мутации генов и рекомбинации участков хромосом, процессы самоорганизации в неравновесных системах разного уровня свидетельствуют о том, что в природе властвуют не только причинно-следственные отношения, причем именно спонтанные, непредсказуемые события инициируют новизну. «Случай, — пишет современный ученый, — подобно фейерверку, пронзающему ночную тьму снопами сверкающих феерий, творит путем последовательных взрывов великое множество великолепных природных образований»87. Естественнонаучные концепции оказали воздействие на философию и гуманитарные науки. Особенно ценны были гносеологические уроки квантовой механики. Принцип дополнительности Бора, осознание того факта, что наблюдаемые физические явления зависят от способа наблюдения, дали толчок развитию теории познания, изучению психической и знаковой деятельности человека. Зыбкий мир диссипативных структур, самоорганизующегося хаоса, спонтанных возмущений, волн вероятности и странных аттракторов, фракталов и агрегатных состояний, самопроизвольных распадов и взаимопревращений частиц. Психофизический мир, в котором проявления материальных свойств неотделимы от деятельности сознания. Картины Пикассо как будто иллюстрируют естественнонаучные и гносеологические теории эпохи. Однако здесь не может быть и речи о влияниях. Пикассо был далек от научных идей своего времени. К тому же многие кардинальные открытия в областях молекулярной биологии, генетики, теории информации еще ждали своего часа. Квантовомеханическая теория в тот период проходила бурный этап становления, в ее проблематику были посвящены лишь немногие специалисты. «Драма идей» подошла к развязке лишь в 1927 году, когда на пятом Сольвеевском конгрессе Эйнштейн, оспаривая вероятностную картину микромира, воскликнул: «Бог не играет в кости!» и получил ответ Бора: «Не наше дело предписывать Господу, как ему управлять миром». Но к этому времени и пикассовская «игра в кости» обрела свойства вполне сформировавшегося, осознанного метода. События научной и художественной революций развивались параллельно и независимо друг от друга. Напомним, что в период двадцатых годов формируется родственный пикассовскому метод Пауля Клее, определяются творческие ориентации ведущих художников сюрреализма — Макса Эрнста, Хоана Миро, Андре Массона, также полагавшихся в своих «автоматических» приемах на игру случая и избирательность человеческого видения. Есть нечто загадочное в этой встрече, казалось бы, далеко разошедшихся в двадцатом веке сфер, в этой согласованности раздельных мыслительных потоков, их дистанционном, бесконтактном взаимодействии. При этом идеи ученого нередко опережаются мыслью художника, который ведет первую разведку на местности, подготавливая становление нового мировоззрения. Художники-первопроходцы открыли образотворческую силу случая, провозгласили его главенствующую роль в своих манифестах. Работы Пикассо могли бы послужить не только комментарием, но и дополнительным аргументом в научных дискуссиях двух последних десятилетий, когда открытия в областях математической топологии, явлений турбулентности и автокаталитических реакций, самоорганизации неравновесных систем привели к формированию новой картины мира. В ней случайность, «ошибка» природы творит закономерность более высокого порядка, а «детерминированный хаос» возникает как следствие закономерного движения системы, чувствительной к начальным условиям. При этом заново были поставлены проблемы квантовой механики, второго начала термодинамики, эволюционной теории Дарвина. В исследованиях мозга была выдвинута концепция нейронального дарвинизма, в которой становление человеческого сознания, вплоть до высших его проявлений, объясняется основополагающими процессами селекции нейронных групп, отбора случайно возникающих синаптических связей. Это означает, что в мозге нет единого центра, управляющего психическими процессами, картина внешнего мира постоянно пересоздается, стабильный образ возникает лишь в результате перебора множества альтернатив, в дарвиновском «соревновании за выживание»88. Развитие жизни, в отличие от простого воспроизводства, питается информационным шумом на всех уровнях — эволюции видов, зарождения и формирования организма, становления сознания. Природа конституируется во взаимодействии противоположностей — готовых алгоритмов и их нарушений, внутренней логики, заложенной в генетической программе, и ее непредсказуемых сбоев под воздействием внешних вторжений. Но именно это происходит в картинах Пикассо, где отклонения от нормы, встряски и «повреждения» формы ведут к открытию нового изобразительного мотива. В его словах о том, что следует работать не с натуры (d'après, букв. — позади), а перед ней, в тесном сотрудничестве, содержится некое предвосхищение. Принцип подражания остается в силе, но получает расширенную трактовку, включающую в себя воспроизведение присущих природе внутренних процессов. «Привести в равновесие натуру и нашу способность к представлению», — записал Пикассо в тетради, относящейся к 1912 году89. А в самом начале рассматриваемого нами периода, в 1919 году, в его альбоме появилась другая запись: «Художники всегда искали в природе реальность. Однако сама природа пребывает в поисках, и только благодаря им мы можем открывать реальность в натуре»90. Короткие заметки, найденные среди эскизов, видимо, были сделаны во время работы, как комментарии к размышлениям в рисунках. Собственноручные записи художника, редкие и потому особенно ценные, — неоспоримое свидетельство целенаправленности его поисков. Здесь следует вернуться к вопросу о театральности работ Пикассо 1920-х годов. Конечно, развертывающиеся во времени динамические последовательности делают живопись театроподобной. Внезапные появления персонажей сходны с эффектными актерскими выходами, с резкими разворотами интриги. Театральны не только сюжетные картины, но и натюрморты, скульптурные ассамблажи, где предметы «входят в роль», и портреты, в которых амплуа модели меняется с перемещением ее в иной контекст. Театрализация живописи и вероятностный полиморфизм ее образного строя — качества взаимообусловленные. Можно было бы сказать, что драмоподобное движение сюжета — лишь частное воплощение более общего принципа. Но факты биографии убеждают в том, что Пикассо шел противоположным путем — от частного к общему, от опыта работы в театре к поиску пространственно-временных аналогов в живописи. Очарованный волшебством хореографического спектакля, познавший на практике механику его создания, он привнес в свое искусство ту же динамику, найдя способ продуктивного сотрудничества с природой — внешней и внутренней, с натурой и ее восприятием. Иллюстрации
Примечания1. Цит. по: Picasso: œuvres reçues en paiement des droits des successions. Paris, 1979. P. 95-96. 2. См.: Gombrich E.H. The Sense of Order: A Study in the Psychology of Decorative Art. Ithaca (N.Y), 1979; Baltrusaitis J. Aberrations: Quatre essais sur la légende des formes. Paris, 1957. 3. См.: Baldassari A. Picasso et la photographie. "À plus grande vitesse que les images" [Catalogue de l'exposition], Paris, 1995; Idem. Heads, Faces and Bodies: Picasso's Uses of Portrait Photographs // Picasso and Portraiture: Representation and Transformation. New York, 1996; Idem. Picasso and Photography: The Dark Mirror. Houston, 1997; Idem. Le Miroir noir: Picasso, sources photographiques 1900-1928 [Catalogue de l'exposition], Paris, 1997. 4. В каталоге Зервоса портрет относится к 1917 году. Новая датировка обосновывается временем приобретения художником двух негритянских скульптур, запечатленных на исходной фотографии (См.: Baldassari А. Picasso and Photography. P. 253, note 446). 5. Впечатление поворота особенно эффектно в киносъемке, при переходе от фотографии к портрету приемом наплыва: на наших глазах Ольга поворачивается и одновременно ниспадает ворот ее платья. 6. Rosenblum R. Cubism and Twentieth-Century Art. New York, 1960. P. 101. К аналогичному выводу приходит Анн Бальдассари в своем сравнительном анализе фотографической и живописной версий портрета: «Здесь уже нет ни запечатленных в клише следов живой модели, ни того, что можно было бы назвать «подлинно энгристским портретом». Так что уместно рассматривать его как двусмысленную манифестацию, в которой контаминируют живопись и фотография, а уроки современности смыкаются с классицизмом» (Baldassari A. Le miroir noir. P. 192). 7. Этот едва заметный крен фигуры становится почти раздражающим на сделанной Пикассо фотографии, где портрет Ольги висит на стене в окружении других, более устойчивых композиций. Вначале кажется даже, что картина косо подвешена и может сорваться со стены. (Фотография опубликована в: Baldassari A. Picasso and Photography. P. 166-167). 8. Daix P. Picasso, créateur. La vie intime et l'œuvre. Paris, 1987. P. 168. 9. См.: Galassi S.G. Picasso's "The Lovers" of 1919 // Arts Magazine. 1982. V. 56. № 6. P. 76-82. Рассматривая картину как замаскированный автопортрет с женой, автор считает, что художник выразил здесь свои противоречивые чувства по поводу начавшейся супружеской жизни: «Язвительную сатиру Мане на мелкобуржуазные нравы Пикассо как будто обратил на самого себя и Ольгу в намерении выразить конфликт между эротическим влечением к жене и отвращением к ее мещанским замашкам» (Р. 82). 10. См.: FitzGerald M.С. Making Modernism: Picasso and the Creation of the Market for Twentieth-Century Art. New York, 1995. P. 97-98. 11. Цит по: FitzGerald M.C. Op. cit. P. 93. 12. Kahnweiler D. — H., Crémieux F. My Galleries and Painters. New York, 1971. P. 54. 13. Анн Бальдассари характеризует разбалансированность изобразительной формы таких портретов: «Все сработано так, чтобы зритель, уверовав с первого взгляда в «фотографические» качества, тотчас же усомнился в них. Пикассо с каким-то удовольствием раскачивает изображение там, где этого меньше всего ожидаешь, так что сомнение рождается из самого тавтологического ядра рисунок \ фото \ реальность. Предаваясь этой игре в амбивалентности, художник получает возможность одновременно идти своим путем отрицания иллюзионизма и откликаться, даже с опережением, на призыв «возврата к фигуративному порядку» (Baldassari А. Le miroir noir. P. 160). 14. См.: Palau i Fabre J. Op. cit. P. 202-203. 15. Ashton D. Picasso on Art: A Selection of Views. Harmondsworth, 1977. P. 115-116. 16. Стравинский И. Ук. соч. С. 116-117. 17. См.: Baldassari A. Picasso and Photography. P. 14. 18. Альфред Бар отметил концептуальную близость такого решения кубистической симультанности: «В кубистический период Пикассо разламывал формы фигур и лиц и, путем взаимоналожения или противопоставления профиля и фаса, показывал одновременно разные аспекты. В картине «У моря» в фигуре нет надломов и сохранена непрерывность формы и очертаний, но она вытянута так, что близкое и далекое, происходящее сейчас и через пять секунд совмещены в одном мгновении. Таким образом время и пространство сливаются в живую, хотя и рудиментарную четырехмерность» (Barr А. Picasso: Fifty Years of his Art. New York, 1946. P. 130). 19. Цит по: Baldassari A. Picasso and Photography. P. 204. 20. См.: FitzGerald M.С. Op. cit. P. 97-109. 21. Ashton D. Op. cit. P. 51. 22. См.: Baldassari A. Picasso and Photography. P. 12. Фотография, сделанная примерно в то же время Брассаи, другом Пикассо, демонстрирует тот же принцип смыкания встречных планов в одной плоскости. Фигуры сидящих за столом Пикассо и Ольги отражаются в зеркале над камином. Позади них, также отраженный в зеркале, — вариант композиции «Источника» в технике сангины, а рядом на стене висит маленький этюд на ту же тему. Снимок хранится в архиве Музея Пикассо в Париже. 23. Об интересе Пикассо к смене пространственных осей свидетельствуют и серии его фотографий, сделанных из центра комнаты последовательным поворотом камеры на 90° (См.: Baldassari A. Picasso and Photography. P. 12, 166-167, 174-175). 24. A Picasso Anthology: Documents, Criticism, Reminiscences. London, 1981. P. 254. 25. См.: Baldassari A. Picasso and Photography. P. 180-183. 26. См.: Rubin W. The Pipes of Pan: Picasso's Aborted Love Song to Sara Murphy // Art News. 1994. V. 93. № 5. P. 138-147. 27. См.: Cowling E., MundyJ. On Classic Ground. Picasso, Léger, de Chirico and the New Classicism 1910-1930. London, Tate Gallery, 1990. 28. Reff Th. Picasso's Three Musicians: Maskers, Artists and Friends // Art in America. 1980. V.68. №.10. P. 130-131. 29. К этому приему Пикассо прибегал и раньше. В кубистической картине 1917 года «Итальянка» (Цюрих, фонд Э.Г. Бюрле) переплетены две фигуры, заимствованные из разных олеографий. Пикассо мысленно раскраивает кичевые картинки на мелкие плоскости и перемешивает их. Зазубренные края плотно заклиниваются, и две фигуры спаиваются в одну. (См.: Baldassari A. Picasso and Photography. P. 178-179). 30. Ibid. P. 174. 31. В нью-йоркской версии монах изображен в доминиканском (или бенедиктинском) плаще с капюшоном, в филадельфийской появляется характерный для францисканцев веревочный пояс. Видимо, Пикассо не очень хорошо разбирался в монашеской атрибутике, но, может быть, и вполне сознательно смешал ее, создав некий симбиоз из символов известных орденов. 32. Ashton D. Op. cit. P. 104. 33. См.: Reff Th. Op. cit. P. 139-141. 34. Ashton D. Op. cit. P. 8. 35. Фиццжеральд полагает, что композиция картины была подсказана этюдами позднего Ренуара, в которых на одном холсте совмещены разнохарактерные сюжеты и разномасштабные фигуры. Два таких полотна были приобретены Пикассо у Поля Розенберга (FitzGerald M.С. Op. cit. P. 103-105). Возможно, трагифарс, разыгрываемый пикассовскими человечками, — иронический перепев набросков Ренуара. 36. Musée Picasso. Carnets. Catalogue des dessins. V. 1. Paris, 1996. P. 221. 37. См.: Cooper D. Op. cit. P. 57. 38. См.: Vogel S. Op. cit. S.239. 39. См.: Cooper D. Op. cit. P. 57-58; Vogel S. Op. cit. S. 229-230. 40. 250 эскизов к «Меркурию» заполняют три альбома, хранящихся в парижском Музее Пикассо. См.: Picasso. Une nouvelle dation. Paris, 1990-1991. P. 213-221; Musée Picasso. Carnets. V. 1. P. 341-395. 41. Ashton D. Op. cit. P. 90. 42. Отставание восприятия от заданного художником темпа — явление не столь уникальное, как может показаться на первый взгляд. Современные исследователи, изучая ранние киноленты на монтажном столе, обнаруживают в глубине кадра события, замаскированные действием на первом плане. Чаще всего это некие мошенники, обчищающие карманы, крадущие драгоценности под шумок всеобщей суматохи. В этом ряду великолепно исследование Ю.Г. Цивьяна, обнаружившего в «кинописи» Дзиги Вертова мощный пласт подспудных значений, неразличимых в экранной проекции, но отчетливо проступающих при изучении фильма на монтажном столе, с покадровой остановкой ленты (См.: Цивьян Ю.Г. «Человеке киноаппаратом» Дзиги Вертова. К расшифровке монтажного текста // Монтаж: Литература, искусство, театр, кино. М., 1988). Это особенно поразительно у такого художника, как Вертов, — чуждого всякому герметизму, стремившегося к открытому общению с рабочей аудиторией. Тем не менее инструментарий монтажного стола открывает иной фильм, не тот, что мы видим на экране. Видимо и здесь, как в случае с Пикассо, инерционное восприятие не успевает за мыслью художника. 43. Otero R. La Mayor Collection de Picasso del Mundo. Köln, Galerie Gmurzynska, 1996. P. 122. 44. Ashton D. Op. cit. P. 10. 45. См.: Vogel S. Op. cit. S.129-131; Léal B. Still Life in the Dialectic between Cubism and Classicism // Boggs J.S. Picasso & Things. Cleveland, 1992. P. 34. 46. См.: Boggs J.S. Op. cit. P. 180-183; Picasso. Une nouvelle dation. P. 147. 47. Boggs J.S. Op. cit. P. 181. 48. В экологической теории зрительного восприятия, предложенной психологом Гибсоном, объект и субъект, зримый мир и органы зрения рассматриваются как функционально взаимосвязанные звенья единой системы, а пространственное видение объясняется не законами перспективы, а способностью живого существа двигаться в разных направлениях (см.: Гибсон Дж.Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988). При рассматривании пикассовского натюрморта-пейзажа глаз то останавливается на переднем плане, то, подталкиваемый многозначными образами, прошагивает пространство в глубину. 49. В созданном годом раньше натюрморте «Красная скатерть» (1924, собрание Розенберг) те же предметы даны в иной расстановке и при утреннем освещении. Покрывающая стол тяжелая орнаментированная ткань образует широкие прогибы. Картина также писалась в Жюан-ле-Пэн. В базельском натюрморте, по-видимому, представлен тот же материал. 50. Brassai. Conversations avec Picasso. Paris, 1964. P. 276. 51. См.: Barr A. Op. cit. P. 132. 52. Сознательное стремление к этому эффекту особенно отчетливо проступает в подготовительных рисунках (см.: Musée Picasso. Carnets. V.2. P. 41). 53. Penrose R. Picasso: His Life and Work. Harmondsworth, 1971. P. 434. 54. Помещенная в биографический контекст, картина наделяется мрачными интонациями. В часто цитируемой брошюре Элли рассказывается давняя история взаимоотношений Пичота и Жермены, Жермены и Касагемаса и композиция «Танца» трактуется как «парадигма взаимоотношений мужчины и женщины, своего рода Танец жизни, перешедший в Танец смерти — с Рамоном Пичотом справа, Жерменой слева и распятым между ними Касагемасом» (Alley R. Picasso «The Three Dancers». London, The Tate Gallery, 1986. P. 22). 55. Интерес Пикассо к светотеневым фантомам, возможно, связан с его интересом к фотографии. В исследовании Флоранс де Мередье, посвященном образотворческой роли материалов в современном искусстве, отмечается, что первоначально фотографию называли гелиографией, подчеркивая ее солнечную, лучезарную природу. В ней видели «спектры», то есть призраки реальности. Свет, обволакивая объекты, уподобляется скульптору, вылепливающему объем, но при этом реальность утрачивает материальную субстанцию, «сублимируется» в прозрачных слоях. (См.: Mèredieu F. de. Histoire matérielle & immatérielle de l'art moderne. Paris, 1994. P. 20-22, 29). 56. Parmelin H. Picasso dit... Paris, 1966. P. 54. 57. Picasso. Peinture 1900-1955. Paris, Musée des Arts Décoratifs, 1955, n.67. 58. Повод для дискуссии дала книга Герберта Шварца (Schwarz H.T. Picasso and Marie-Thérèse Walter, 1925-1927. Montmagny, 1988). Автор, медик по профессии, полагает, что Пикассо встретился с Мари-Терез Вальтер (о ней речь пойдет ниже) не в начале 1927 года, а двумя годами раньше. Установленную со слов Пикассо и его возлюбленной дату Шварц считает сознательно сфальсифицированной, поскольку в 1925 году Мари-Терез было лишь пятнадцать лет. Свою версию Шварц пытается обосновать, в частности, пересмотром сюжета, представленного в «Ателье модистки». По его мнению, в картине изображены Мари-Терез, ее мать и сестра, занятые шитьем в их собственном доме, а также сам Пикассо, входящий в дверь. Несмотря на слабые аргументы — не обнаруженная по указанному адресу мастерская (через 60 лет!) и увиденная в доме Мари-Терез застекленная дверь (весьма обычная для внутренних помещений), — эта любительская версия получила одобрение двух видных специалистов, Уильяма Рубина и Роберта Розенблюма (см.: Picasso and Portraiture: Representation and Transformation. P. 61-62, 338-339). Между тем указанный в каталоге мотив хорошо согласуется с изобразительным строем картины, мерцанием «застекленных» и отраженных фигур. Нет оснований не доверять свидетельствам художника, которые могут быть отвергнуты только под сильным давлением новооткрытых фактов. 59. Еще в 1901 году Пикассо сделал интересную фотографию приемом двойной экспозиции: на стену мастерской ложится, как тень, слабо пропечатанный автопортрет. Снимок сопровождался шутливой надписью: «Передо мной расступаются самые крепкие стены. Берегись!» Коль зашел ненужный, на наш взгляд, спор о закартинной реальности «Ателье модистки», отважимся высказать собственные догадки. Неопознанная пока женская модель в картинах Пикассо 1925-1926 годов — не Мари-Терез, как полагает Шварц, а юная мастерица, работавшая в этом самом ателье. В рисунках и некоторых картинах 1926 года она представлена в той же стилистике — с дрожащими, раздваивающимися контурами, словно увиденной сквозь стекло. В беседе с Роберто Отеро Пикассо упомянул, что у него была натурщица-японка, которая проживала на улице Ля Боэси, то есть по соседству, и вызывала сильную ревность Ольги (См.: Otero R. Op. cit. P. 162). В «Ателье модистки» фигурируют пожилая мастерица, по-видимому хозяйка предприятия, и две ее молодые помощницы. В парной картине тот же состав действующих лиц, но две юницы представлены в виде затворниц, нравственность которых оберегает строгая надзирательница, что, правда, не мешает художнику флиртовать за спиной бдительной дуэньи. В некоторых офортах к «Неведомому шедевру», созданных в начале следующего года, мы встретимся с такой же расстановкой персонажей. 60. Цит. по: Lawder S.D. The Cubist Cinema. New York, 1975. P. 23. 61. Ashton D. Op. cit. P. 8, 9, 10. 62. См.: Reppas J.B., Dale A.M., Sereno M.I., Tootell R.B.H. La vision, une perception subjective // Recherche. 1996. № 289. P. 52-56. 63. Baldassari A. Picasso and Photography. P. 16. 64. Ibid. P. 16. 65. Brassai. Op. cit. P. 238-239. 66. Parmelin H. Op. cit. P. 111. 67. Матиссовские мотивы неоднократно возникают в творчестве Пикассо. Ив-Апен Буа (Bois I. — A. Matisse and Picasso. Fort Worth, 1999) характеризует отношения двух художников как «мягкое соперничество», протекавшее в форме активного диалога, отличного от простых заимствований. «Большая обнаженная в красном кресле» создавалась, по-видимому, во время выставки в галерее Поля Розенберга (апрель — май 1929), где картины Матисса и Пикассо располагались на противоположных стенах. Буа находит возможный прототип пикассовского полотна — «Одалиска с тамбурином» (1926, Нью-Йорк, Музей современного искусства), где модель представлена сидящей в кресле в той же позе с поджатой ногой. 68. Приведем два образца из множества суждений подобного рода. Пьер Кабан пишет о работах конца двадцатых годов: «Перестройки форм отныне становятся мотором этики и эстетики Пикассо, однако основываются они на жестокости, упоении насилием и безобразием» (Cabanne P. Le siècle de Picasso. V. 1. Paris, 1975. P. 418-419). Аналогичную оценку этого периода дает Антонина Валлантен: «Начавшийся с 1926 года период метаморфоз — это возврат к неизбывной тоске, которая отливается теперь в форму чудовищных фигур. Кроме того, Пикассо влекла смутная жажда мести любимым лицам и обожаемым телам. И он не был одинок в этой мстительности, в этом отвращении к извечному предательству природы, к ее убаюкивающим миражам красоты» (Vallentin A. Pablo Picasso. Paris, 1957. P. 275). 69. Слова Пикассо приводятся Мальро: Malraux A. La tête d'obsidienne. Paris, 1974. P. 101. 70. Ibid. P. 121. 71. Ashton D. Op. cit. P. 9-10. 72. Boeck W., Sabartès J. Picasso. London, 1955. P. 24. 73. Ashton D. Op. cit. P. 18. 74. См.: Spies W. Carnet Paris — Carnet Dinard. Sechs Monate im Werk Pablo Picasso (8. Juni — 17. Dezember 1928) // Pablo Picasso. Eine Ausstellung zum hundertsten Geburtstag. München, 1981. S. 95-155. 75. Einstein C. Picasso: the last decades // A Picasso Anthology. P. 169-170. 76. Ashton D. Op. cit. P. 3. 77. Breton A. Les pas perdus. Paris, 1924. P. 158-159. 78. Цит. по: FitzGerald M.С. Op. cit. P. 139. 79. В своей недавней книге Розалинд Краус рассматривает пикассовский классицизм как череду намеренно обезличенных подделок (pastiches), в которых были сублимированы тенденции времени к механицизму и абстракции (См.: Krauss R.E. The Picasso Papers. Cambridge (Mass.), 1999. P. 89-210). 80. Arnheim R. Visual Thinking. Berkley — Los Angeles, 1969. P. 153. 81. Gilot F., Lake C. Life with Picasso. New York — Toronto — London, 1964. P. 116. 82. См.: Habib M., Robichon F., Demonet J. — F. Le singulier cerveau des dyslexiques // Recherches. 1996. № 289. P. 80-85. 83. Конечно, скрытые образы Пикассо не остались вовсе не замеченными. Здесь следует указать, прежде всего, на работу Линды Лэнгстон: Langston L.F. Disguised Double Portraits in Picasso's Work, 1925-1962. Ph.D. dissertation. Stanford University, 1977. Однако замаскированность женских портретов объясняется в этом исследовании частными мотивами — намерением художника оградить свою личную жизнь от посторонних взоров. В том же ключе трактует Пьер Дэкс «Натюрморт на круглом столе» (1931, Париж, Музей Пикассо), в котором проступают очертания фигуры Мари-Терез (См.: Daix P. On a Hidden Portrait of Marie-Thérèse 11 Art in America. 1983. V. 71. № 8. P. 124-129). 84. Ashton D. Op. cit. P. 131. 85. Плоть и кость дзэн. Калининград, 1993. С. 129. 86. Ashton D. Op. cit.. P. 138. 87. Lestienne R. Le hasard créateur. Paris, 1993. P. 15. 88. См.: Edelman G.M. Biologie de la conscience. Paris, 1992; Changeux J. — P, Connes A. Matière à penser. Paris, 1989. 89. См.: Musée Picasso. Carnets. V. 1. P. 220. 90. Цит. по: Spies W. Picasso und seine Zeit // Pablo Picasso. Eine Ausstellung zum hundertsten Geburtstag. S. 29.
|
|
© 2025 Пабло Пикассо. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |